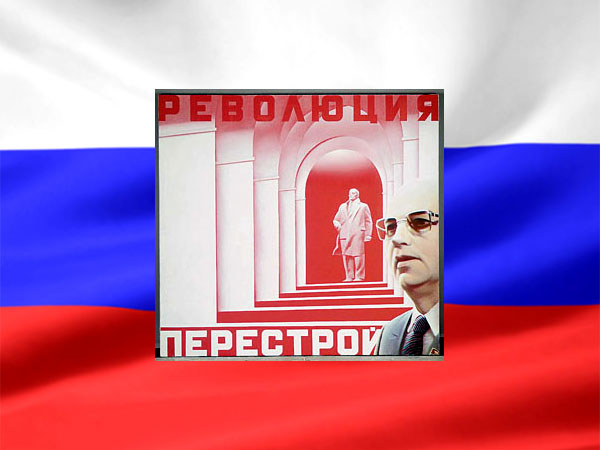Отрывки из романа «Распад»

Из романа «Распад», часть III
Раздвоение возникло в нем с детства. Он не мог вспомнить точно, когда именно – тогда ли, когда ходил с мамой доедать обеды в райкомовской столовой и, черпая ложкой, слушал по радио бравурные марши и песни Покраса, или чуть позже, когда их выстраивали в школьном зале клеймить врагов. Зал был тесный, маленький, с портретами Ленина-Сталина над сценой и лозунгами по краям. «Люди у нас не родятся, родятся организмы, а людей у нас делают» [1] , – значилось на лозунге справа, левый же был совсем короткий: «Грабь награбленное» [2]. Они стояли в шеренгах, точно в затылок друг другу и кричали под команду кого-нибудь из учителей: «Смерть Бухарину», «Смерть Зиновьеву», «Смерть Каменеву», «Смерть Троцкому», «Смерть Рыкову», «Смерть врагам народа». Директор, в комиссарской тужурке, расхаживал вдоль рядов, глядя холодным фанатическим взглядом желтоватых глаз и, если ему казалось, что кричат недостаточно, заставлял повторять снова. Время от времени, чтобы не ослабевал энтузиазм, он сам принимался выкрикивать: «Смерть бандитам. Эти сволочи хотели убить нашего вождя Иосифа Виссарионовича Сталина. Смерть бандитам» или за шиворот вытаскивал из строя нерадивого, паясничающего ученика. Тот, почувствовав себя отщепенцем, политическим, которого надо раздавить как гадину или железной метлой вымести, пытался сопротивляться, рвался обратно в строй и начинал кричать громче, но директор был неумолим, так что еще много дней приходилось изгою со слезами, клянча, безнадежно ходить за ним по школе.
Нередко, как заметил Саша, директор хватал за шиворот произвольно, совсем не тех, кто кричал тише – чаще всего это были евреи или мальчики из интеллигентных семей, которых директор ненавидел классовой ненавистью. К тому же (об этом Саша догадался много позже) директору постоянно требовались враги. Гонения на врагов помогали укреплять дисциплину, а заодно и собственную его власть.
Как-то, перед войной уже, очередь дошла и до Саши. Директор, схватив его за плечо, втолкнул в кабинет.
– Я давно наблюдаю за тобой, Вартанов. Ты не хочешь клеймить врагов. Ты – отщепенец, враг мирового пролетариата.
– Нет, я хочу, – упрямо-испуганно возразил Саша.
– Не ври, – строго сказал директор. – Может быть, дома не велят?
Дома как раз накануне отец сказал маме: «Не может быть, что шпионы – все. Они же делали революцию». Но сейчас, спасая отца, Саша пролепетал:
– Нет. «Смерть троцкистско-зиновьевским двурушникам», – вот что говорил папа. Он вчера напился и даже на улице кричал…
Директор слегка смягчился.
– Я буду за тобой наблюдать. Ты у меня на подозрении. Смотри…
С тех пор Саша старался особенно, кричал громче всех. Впрочем, не он один. Как-то от усердия у одной девочки случился припадок эпилепсии. Она упала и стала биться о сцену, на губах её была пена, они же, боясь пошевелиться, продолжали кричать. Директор подошёл сам, схватил её поперек туловища и вытащил в коридор. Припадок, видно, был недолгий, потому что вскоре девочка вернулась и по-пионерски решительно встала в строй…
Но, пожалуй, наибольшее впечатление произвела на Сашу история с соседом Сомовым, вернувшимся в сорок четвертом без руки с фронта. Подвыпив, сосед сидел у ворот со старушками и слушал радио. Передавали о боях в Польше.
– С Польшей-то вон как вышло. По договору отдали Гитлеру [3]. Думали задобрить злодея. Под Катынью-то, говорят, много их побили, полячишек-то… Офицеров, генералов расстреляли всех. Не любит наш-то поляков. Гордые больно, пся крев. А теперь вот союзники…
Никто ничего не сказал тогда Сомову, и он, Саша, не понял даже, что это была за Катынь. Но люди сразу раздвинулись, вокруг Сомова оказалась пустота; такая пустота всегда бывала вокруг мертвых, то есть не совсем ещё мертвых, живых-мертвых – и Сомов, хоть и был выпивши, это понял сразу. Он принялся оправдываться:
– Да что вы, и чего я сказал такого?
Но все молчали. Тогда он принялся канючить.
– Вот, руку отдал. Инвалид теперь. Кому инвалид нужен?
Все продолжали молчать. Сомов поднялся и шаткой походкой побрел к себе. Ночью он повесился.
Александр Арменакович встал, прошелся по кабинету. Кабинет его давно превратился в собрание антиквариата, ценных книг и картин, среди которых особенно выделялись картины художника Бакатина. С Бакатиным в своё время Александру Арменаковичу повезло чрезвычайно. Тот вернулся в Москву из лагеря, где отсидел восемь лет за абстракционизм, в 1956 году, вскоре после ХХ съезда. Бакатин был нищ, без прописки, голодал и к тому же пил, так что Александру Арменаковичу ничего не стоило заманить Бакатина на дачу. Дача была тестя, старая, неустроенная, не ремонтированная ни разу еще с довойны, к тому же и тёща громко выражала недовольство («Стащит ещё что-нибудь», хотя тащить с дачи было абсолютно нечего), но всё-таки Александр Арменакович устроил ему каморку. С полгода Бакатин на полуголодных харчах обретался там, в иные дни отсыпался или уходил удить рыбу, раза два пропадал совсем, но всё-таки создал картин пятнадцать, пока его не увёл кто-то из коллекционеров вместе с последними набросками «Рая». «Ад» же Бакатин оставил Александру Арменаковичу в благодарность, скорее даже не оставил, а бросил, картины свои он ценил мало. Септих, однако, это был замечательный – не лубок, как позже станет писать Бакатин, но что-то величественное и смутное, почти абстрактное – страна: некий томографический срез греха, помпезности, лицемерия, святости, убожества и гордыни; в особенности же последняя картина «Суд» – бесконечная, как в винном магазине, очередь в никуда, в Аид, покорный, мрачный, молчаливый народ, ничтожные вожди, преображенные в кривых зеркалах портретов; плакат с издевательской надписью у входа: «Каждому своё» [4].
Кроме «Ада», Бакатин оставил еще наброски «Гулага» (не исключено, что это могли быть иллюстрации к рассказам Шаламова [5] ), так что Александр Арменакович принужден был их хранить тайно; он знал, что история когда-нибудь повернется и картины Бакатина станут продавать за цену невероятную.
Но, пожалуй, это произошло раньше, чем Александр Арменакович мог предположить. С первой волной еврейской эмиграции несколько картин Бакатина, в том числе и наброски «Рая», оказались неизвестно как в Нью-Йорке. О Бакатине заговорили, репродукции его картин появились в самых известных журналах по искусству, наиболее ушлые из коллекционеров, в том числе и иностранцы, рыскали по Москве в поисках Бакатинских шедевров (некоторые даже выходили на Александра Арменаковича); цена «Ада», вероятно, в ближайшие годы должна была составить несколько сот тысяч долларов – становилось опасно, и Александр Арменакович решил картины никому больше не показывать.
Исключение Александр Арменакович сделал лишь один раз. Незадолго до Лениной свадьбы он решился показать Игорю свои раритеты – тот казался ему умён, образован, к тому же в Игоре Александр Арменакович чувствовал человека, по духу себе близкого. Бакатинские шедевры, однако, Игорь оценить вполне не смог. Он рассматривал их долго, пытался понять – судя по всему, даже почувствовал силу художника, но всё-таки оказался подготовлен недостаточно и оттого оживился по-настоящему, лишь узнав от Александра Арменаковича предполагаемую цену картин.
Вообще к Игорю отношение у Александра Арменаковича было двойственное: с одной стороны, он благоволил зятю, с другой же – Игорь вызывал у Александра Арменаковича опасения. Серьезных причин, впрочем, у Александра Арменаковича не было, просто после афронта с Виктором он стал подозрителен. К тому же Игорь был еврей, хотя и числился русским… Нет, он, Александр Арменакович, не антисемит, упаси боже, скорее наоборот – у евреев и армян в судьбах много общего… Но положение-то у Игоря тупиковое… У Маевской старшего научного ему не видать, да и после Маевской тоже. Чудновский – антисемит, тайный, но упёртый. Хочет выглядеть, конечно, респектабельным господином, жлобство, однако, просвечивает…
Он, Александр Арменакович, вне сомнения, может помочь Игорю. Но не на эту ли помощь Игорь и рассчитывал? Спокойнее было бы Лене выйти за своего. То есть не обязательно за армянина, он, Александр Арменакович, и сам женат на русской, но за сына такого же как и он начальника. Фермопилов как раз предлагал недавно. Но Лена не захотела… Впрочем, Фермопилов не отёсан… Мурло… Оттого и выдвинулся только, что начальство терпеть не может умных. Им, видите ли, нужен фон… Игорь же умный. И отец профессор. Интеллектуал…
Да, профессор Белогородский был блестящ. Невысок, подвижен, глаза умные. Обходителен и вместе с тем слегка желчен… Александр Арменакович встретился с ним лишь один раз, лет двадцать почти назад… Да… Клубника на террасе на столе… И народ на пляже… Конец июня, значит, или июль. Александр Арменакович впервые был тогда в Кратово. Подавлен из-за неприятностей на работе, к тому же сны, так что в электричке он очень нервничал. Только у пруда почувствовал вдруг себя спокойней. Вспомнил, что лето, вздохнул глубже…
Профессор выслушал, не перебивая. Улыбнулся лишь чуть-чуть, когда Александр Арменакович принялся пересказывать сновидения.
– Хрущева, значит, видели, ну и бог с ним, – профессор поднялся, заходил по комнате, едва Александр Арменакович закончил исповедь. Исповедь, впрочем, была неполной, кое-что от профессора он утаил.
Владимир Иосифович расхаживал долго; заговорил, наконец, после паузы:
– «Синдром несостоявшегося гражданина», – вот как я бы вашу болезнь назвал. Вы поняли, осознали свою несвободу. Что вы никто… все мы никто… Крушение стереотипов… веры… Обратите внимание, сны – и те на эзоповом языке. Впрочем, это болезнь у нас массовая… Болезнь тоталитаризма… Будь вы менее интеллигентны, вы были бы вполне довольны. Как довольны тысячи биологических людей, что едят сегодня сытнее, чем вчера…
Профессор желчно усмехнулся:
– Неужели вы ждете от меня таблеток? Нет, таблеток не будет. Я не хочу вас травить. Вы приспособитесь. Да, приспособитесь вполне. В этой стране все приспосабливаются… все превращаются из homo sapiens в homo soveticus.
В сущности, есть только два выхода: революция или игра. Но к революции мы не готовы. В нас слишком много страха – от Сталина еще, – инерции, догм, просто, наконец, неумения работать. Народу нужно еще лет пятьдесят. И слава богу. Я бы, честно говоря, не хотел дожить до новой русской революции. Так что остается второе: стать игроком. И я, как врач, именно это вам настоятельно советую – стать игроком.
– Стать игроком? – переспросил Александр Арменакович, удивленный монологом профессора.
– Да, именно игроком. Как вы мыслите, в чём сущность национального советского характера? Не армянского, не грузинского, не еврейского, не русского, а именно советского?
Александр Арменакович молчал.
– Страх, покорность, двоедушие, – отчеканил профессор. – А отсюда, как вы сами понимаете, совсем недалеко до скрытой агрессивности, жестокости, неуправляемости, злобности. По феномену вытеснения в подсознание. Честно говоря, я не знаю даже, где граница между патологией национального характера и патологией личности. И никто не знает. Потому что никто ещё не изучал психологические и психические последствия тоталитаризма. Так же как и генетические.
Ну, хорошо, спросите вы, при чем же здесь игра. Отвечаю. Игра – это единственный способ остаться вне системы, приспособиться к ней. Постарайтесь вообразить, что вы находитесь в театре абсурда, с нелепыми, но обязательными правилами. Пусть ваша игра состоит в том, чтобы соблюдать эти правила. Да, чтобы выиграть, надо соблюдать правила. Ирония, юмор и соблюдать правила…
В сущности, профессор Белогородский учил цинизму. Но чему иному мог он учить?
«Социализм – это капитализм наоборот. Значит, мы вот уже много лет ходим головой вниз».
#
Двадцать лет спустя, когда профессора Белогородского в живых уже не было, разговор тот неожиданно получил продолжение. Впрочем, продолжить его решился теперь сам Александр Арменако-вич, показывая Игорю картины Бакатина.
– Бакатин всё изведал, – сказал он Игорю, расхаживая, как когда-то профессор Белогородский, по кабинету. – И сталинские лагеря, и брежневские психиатрички. И знаете почему? Он не соблюдал правила. Мы живём, конечно, в театре абсурда, но обязаны делать вид, что наша жизнь – храм. В общем, ему не хватало цинизма. Среди художников иногда встречаются святые люди. Редко, но встречаются. Одни ударяются в цинизм, другие – в православие или русофильство, третьи – в западничество, четвёртые – в самоуничижение, в пьянство, только очень немногие остаются сами собой.
– Где он сейчас? – полюбопытствовал Игорь.
– Уехал недавно, как уезжают очень многие талантливые люди. Бакатин, впрочем, сломлен. Не думаю, что там ему будет хорошо. Незадолго до отъезда я его видел. Знаете, мне показалось, что он и в самом деле… стал странным. Борода, руки дрожат, глаза бегают. Возможно, подействовал сульфазин.
– Какой сульфазин? – не понял Игорь. – При чем тут сульфаниламиды?
– Наши эскулапы от психиатрии называют сульфазином какой-то возбуждающий препарат. С его помощью они издеваются над политическими или вымогают взятки…
Когда-то, лет двадцать назад, я имел удовольствие беседовать с вашим отцом. Он развивал интереснейшую мысль о влиянии тоталитаризма на национальный характер. И на национальную психику.
– После папиной смерти я обнаружил довольно много разных записей, в том числе и на эту тему. Так что, если вы хотите прочесть…
Итак, теперь нужно было прочесть. Записи профессора Белогородского лежали перед ним, Александр Арменакович, однако, задумался…
Но кто же он? Увы, сомнения не было: игрок, исполнитель. Но чей? Не замминистра, не министра – нет; люди менялись, менялись приказы, инструкции, менялись под ними фамилии, но он продолжал исполнять. Не всегда. Иногда Александр Арменакович нарушал, конечно, если нужно было ему, или велело начальство, но это бывало редко. Однако допускалось. То была его привилегия – привилегия исполнителя, винтика системы.
Да, он – винтик. Маленький винтик, сознающий собственную ненужность. Слуга Молоха. Игрок. Мельчайшая часть номенклатуры.
По-своему он большой человек. Талантливый администратор. Большая часть медицинского импорта – оборудование и лекарства проходят через него, от него зависит, дать или не дать валюту республике, помочь институту или, напротив, остановить исследования, оставить без лекарств область; он – нужный человек и оттого имеет связи, умеет обращаться с людьми, знает давно, что улыбка или шутка решают дело быстрее и лучше, чем самый строгий приказ или незыблемая принципиальность, умеет пользоваться своим обаянием – и все-таки он только винтик. Да, ненужный винтик в ненужном главке в бессмысленной системе.
Он, конечно, мог бы уйти. Тайно он презирает номенклатуру – этих тупых, ленивых, бездеятельных людей, – и ненавидит партию. Но он не уйдет. Не уйдет, потому что не мыслит себя вне номенклатуры и вне партии. Привык руководить. И давно болен; да, болен – этой страшной, ленивой, разлагающей номенклатурной болезнью…
Притом – и некуда ему уйти. Ибо он раб. И рабство его не в том, что нет выборов, партий, свободы слова или печати, потому что это лишь малая часть свободы; рабство его в том, что некуда ему уйти, что его энергия, ум, знание людей, обаяние, наконец – все пропадает втуне. Он, как и все, раб системы. Сизиф.
Системе нужны биологические существа, не люди. И она кропотливо, хитроумно, жестоко, беспощадно растит их – исполнителей, игроков, служителей Молоха, рабов, пролов [6]. Уничтожает генетически всех иных. Запрещает книги, картины, фильмы, мысль. Подавляет всё, что хоть чем-то выделяется из ряда. Возносит дураков и тупиц, культивирует ограниченность. И он, Александр Арменакович, при всех своих способностях, при всех талантах, порывах – лишь одно из этих биологических существ, сохранившее лишь остатки независимости в частной жизни.
За это он и ненавидит их, ненавидит систему. И любит тех, в ком замечает, как в себе, эту тайную ненависть к ним. За это он сразу проникся симпатией к профессору Белогородскому, хотя тот, в сущности, ничем не помог ему, да и не мог помочь, потому что единственная болезнь, которой Александр Арменакович страдал тогда, да и сейчас страдает, было раздвоение личности. От этого же он сразу принял Игоря. Игорь, как и он, принадлежал к братству. Да, к тайному братству людей, сохранивших остатки свободы. И тайное презрение к системе…
Сразу после свадьбы молодые улетели в Сочи. Затем они собирались побывать в Тбилиси и Ереване. В Ереване, вероятно, заглянут к престарелой тетушке Пепронии, вдове недавно умершего дяди Саркиса. Могли бы и не заглядывать – ничего, кроме нищеты, они там не увидят, но Игорь проявил любопытство. Ему захотелось посмотреть настоящий армянский дом.
Александр Арменакович вздохнул, присел в глубокое кресло, закрыл глаза.
Никогда он не любил дядюшку Саркиса, старшего маминого брата, так что, когда умерла мама, почти прекратил с ним отношения. Разве что по праздникам посылали друг другу открытки. Потому что дядюшка Саркис был глуп. В молодости он сам был дашнаком [7] и, однако, верил, что дашнаки – агенты английской разведки; когда посадили Чаренца, тут же поверил, что Чаренц враг и книги его сжёг, и в тридцать седьмом году – верил, и когда посадили врачей – тоже верил и требовал их казни, даже письма писал Сталину. И когда умер Калинин – плакал, и когда Сталин – плакал, совсем убитый ходил, даже после XX съезда не снял со стены портрет. Да, так и было: нищая, тёмная – лишь стол, кровать да два колченогих стула – комната; шкафа и то не было, только вешалка на стене, и портрет.
Всю жизнь дядюшка Саркис работал жестянщиком, не выезжал почти никуда, даже в Москве был один только раз, да и то ходил лишь в мавзолей и на ВДНХ.
Детей у дяди Саркиса не было, жена его, тетушка Пепрония, никогда не работала – всю жизнь кулинарничала и вышивала, в этом она была непревзойденная мастерица, так что, когда дядя Саркис лет в семьдесят с лишним вышел на пенсию, жить им стало сразу не на что, и тетя Пепа прислала Александру Арменаковичу письмо. Жаловалась на Саркиса, который ничего больше не зарабатывает и пенсию заслужил всего шестьдесят два рубля, а теперь ещё выпивает (выпивал дядюшка Саркис и раньше) и начал драться. Александр Арменакович не стал им тогда писать – бог с ними, пусть живут как хотят, тёмные люди, отправил лишь тридцатку. В ответ он получил от дяди Саркиса письмо. Тот, поблагодарив вначале, тут же принялся упрекать Сашу, что он неродственный, не уважал никогда и сейчас не уважает родного дядю и что вообще женат на русской. Но, уж раз так, советовал держать жену в строгости, как он держал всю жизнь свою Пепу. Года три или четыре Александр Арменакович отправлял им переводы, получая в ответ дурацкие письма с упрёками, потом же вместо писем дядюшка Саркис стал присылать вырезки из газет с аккуратно подчеркнутыми строчками. Вырезки все были на армянском, Александр Арменакович читать их не умел, разговаривал он ещё кое-как, но грамоту армянскую не знал почти, понимал только отдельные буквы. Всё же как-то попробовал перевести, но понял лишь несколько слов: «Маркс», «Ленин», «коммунизм», «светлое будущее», «пролетарский интернационализм», «дружба народов», «диктатура пролетариата», «империалистический заговор», «сионизм», «социал-предательство» и «интернациональный долг» – на этом ему стало скучно и тошно, к тому же слова начинали повторяться, он перестал читать. Потом писем долго не было. Александр Арменакович уже начинал беспокоиться, что дядя Саркис умер, когда пришло письмо от тетушки Пепронии. Сама писать она не умела ни по-армянски, ни, тем более, по-русски, за неё писала соседка. Тётя Пепрония сообщала, что дядя Саркис стал совсем плох: не ест больше, приходится кормить его с ложечки, ходит часто под себя, кричит, дерётся, но бьет её совсем не больно, потому что сила у него как у маленького мальчика, и лишь по-прежнему сидит над газетами, подчёркивает передовицы и статьи про коммунизм красным карандашом…
Из романа «Распад», часть III
В первые годы службы жизнь главка казалась Александру Арменаковичу удивительной. В самом деле, страна ещё не встала из руин, ещё не были отменены карточки, в магазинах тянулись с утра очереди, люди по-прежнему жили в бараках, деревня голодала, в больницах не хватало лекарств, шприцов и даже посуды, так что тощую похлёбку больным отпускали в две смены; тут же, в главке, сотрудники томились от безделья или писали ненужные, липовые бумаги. Ещё более странным казалось, что они, бездельники, должны были контролировать людей дела, проверять каждый их шаг, требовать отчёта, что без их позволения очевидно полезное дело не могло стронуться с места, что дефицит они распределяли по звонкам, по приказам, по собственному произволу или связям, но никак не по действительной необходимости и что перед ним, мальчишкой, елозили и расшаркивались убелённые сединами главврачи и профессора, у которых он вчера учился. И совсем уже странно казалось то, что люди – и в главке, и те, что приходили просить – всего этого как будто не замечали и были убеждены, что именно так и должно быть. Тут что-то было неладно. Или все эти люди были глупы (он не умел предположить тогда, что – рабы), или он что-то не понимал фатально. Но – что? Александр Арменакович немало размышлял, встречался и разговаривал с людьми, так что довольно скоро в мозгу у него сложились две гипотезы. Правда, любая из них начисто вначале отрицала другую. По первой гипотезе у них в главке был полный бардак, никто ничего не знал как следует, не понимал, не думал, не хотел думать – и в силу этой неразберихи, разгильдяйства и глупости всё было поставлено с ног на голову. Он допускал даже, что об их главке, созданном изначально для распределения оборудования по репарациям, вообще забыли (то есть забыли своевременно его ликвидировать), но чем больше он наблюдал жизнь, тем яснее видел, что такой же бардак и такая же глупость не только в их главке, но и в министерстве, и в других министерствах, везде – и что это по недомыслию только, в силу всеобщей глупости или лжи называется «социализм».
По другой гипотезе, напротив, всё было чрезвычайно логично и предусмотрительно устроено. Государство, безликое, но властное, берегло свою власть и от этого не хотело никому дать ни крупицы свободы, потому что всякая крупица свободы, всякое право на месте решать означало убавление его власти. Оно, государство, было как человек: голова – это партия и правительство; нервы – это чиновники, министерства, главки, местные партийные органы; глаза и уши – КГБ и опять же партийные органы; рабочие, крестьяне, интеллигенция выполняли функции рук и ног. Голова, нервы, глаза, уши – слишком тяжелы казались для этого уродца. Они страдают от безделья, от хронической недогрузки, от мании особого знания (марксистско-ленинская теория), они не верят в элементарный здравый смысл – и оттого всё замыкают на себя. Вырисовывалась система. Система имела свою логику, свою иерархию ценностей, свой смысл. Смысл этот заключался не в том, чтобы гармонично развивать общество, составить развитие и счастие народа, дать ему свободу труда, но в том, чтобы оберегать власть партии, её привилегии, её право на особое знание. А если так, то и главк, и раздутые министерства, и партийные органы выполняют почти ту же функцию, что и КГБ. Их главная функция не развитие, не улучшение, не строительство нового общества, но– тотальный контроль. Сделать из человека раба, лишить воли, инициативы, подчинить – вот их цель. Главная цель. И если это цель, тогда главк нужен, нужны все чиновники и министерства. Это было гениально. И тот, кто это придумал – гений. Злой гений, дьявол, но гений. Но мог ли один человек это придумать? Даже если этот человек гений. Или система по каким-то неясным, неоткрытым еще законам создавала себя сама? А люди? Какова их роль? Почему никто не понимает? Или понимают, но молчат? И цель – кто ее установил? Не безумна ли сама цель? И что ожидает такое государство? Вырождение? Перекачка всех сил в бездумную, бессмысленную машину контроля?
Вопросов было множество. И чем больше он находил ответов, тем больше возникало новых вопросов.
Когда это было? Году, наверное, в пятьдесят пятом. Да, в двадцать семь лет. Впрочем, нет, он многое понимал ясно, очень ясно даже в школе еще, но вот так, сразу увидеть целое, систему, жизнь. Это в пятьдесят пятом.
Он попробовал заговорить с тестем. Тесть, профессор, неглупый казался человек. Хотя… Ученый-химик, он ничем кроме химии не интересовался. Тогда… Они долго присматривались друг к другу…
Дело было на праздники, седьмого ноября. Но день был тёплый, солнечный. Итак, они стояли на балконе…
– А вы уверены, что сегодня праздник? Тесть удивленно взглянул на Сашу.
– Ну да, я спрашиваю, вы уверены, что сегодня праздник? Что России нужен этот праздник?
– Конечно, нужен. Историческая закономерность…
– Помните, вы возмущались… Помните, когда травили Сыркина…
– Сыркин – частный случай…
– Не много ли частных случаев?.. Генетики, кибернетики, Сыркин, врачи, очереди за сахаром… Вам не кажется, что это – система.
Тесть молчал. Потом сказал неуверенно:
– Может быть…
Он понял тогда: страх. Да, страх – цемент системы. Страх… И всё-таки: только ли страх?
Потом – они жили уже отдельно – он спросил у Тамары:
– Ну, слушай, пусть твой папаша мне не доверяет, но сами-то что они говорят? Неужели он верит в систему?
– Нет, он не верит. Он не хочет об этом думать… Вернее, боится думать. Инстинкт самосохранения…
… Страх …
Александр Арменакович из чистой любознательности решил продолжить эксперименты. Не для них, хотя в органах он всё ещё числился. Нет, он просто хотел знать…
… Петр Евсеевич… По всем параметрам – дворянин, отобрали дачу и пользуются теперь сами, уплотнили, уничтожили двух братьев – он должен был их ненавидеть. Предначертание, расплата за опричнину, историческая необходимость – чушь…
Начал он, конечно, издалека.
– Петр Евсеевич, как вам кажется, от нашей работы есть польза?
– Польза? – у Петра Евсеевича от удивления высоко взметнулись брови. – Я всю жизнь прожил, а вы говорите «польза». – В голосе его звучала обида…
И вдруг он понял. Обе гипотезы, противоречившие друг другу, казалось, несовместимые – обе гипотезы были верны…
Да, железная сталинская пирамида, во главе которой стоит партия, беспощадное, всевластное государство и бардак – это и есть система. Две ипостаси зла…
И тогда он впервые увидел Молоха [8]…
Он не мог бы сказать, отчего он узнал, что перед ним Молох. Это было не человекоподобное железное чудище с пастью для жертвоприношений, но какая-то огромная машина. От её раскалённого железного тела шёл нестерпимый жар, вместо рук и ног крутились колёса и шестеренки. Приводимые в движение рычагами, которые вращали роботы, они двигались тяжело, с лязгом, но вместе с тем неотвратимо, вечно – так сильна была инерция движения – и передавали свой вращающий момент на качели, которые летели в узкой пропасти между колёсами со сверкающими на солнце зубьями
– одни вверх, другие вниз. Внизу под качелями стояли две очереди: короткая и длинная. Люди в короткой очереди толкались, падали, кричали, отталкивали друг друга, пока не проходили в какое-то мраморное здание. Там они открывали свои груди, доставали и кидали в урну что-то невидимое, в обмен им протягивали красные билеты. Они тут же бросались к качелям, карабкались вверх и от этого качели скрипели, их опоры сгибались, колеса, перекашиваясь, шли все труднее, рывками, со страшным лязгом и грохотом, но ни на миг не прекращали бессмысленно-адское движенье…
Другая же очередь, чёрная, мрачная, неподвижно, немо продолжала стоять внизу…
Но тем, кто сумел взобраться на качели, тоже приходилось несладко. Потому что качели нельзя было ни остановить, ни выпрыгнуть из них – внизу была страшная пропасть и неумолчно, вечно двигались страшные колеса. Качели, на которых сидел Александр Арменакович, плыли всё выше и вместе сотрясались всё сильней, так что от страха и тряски у него захватывало дух, а сердце проваливалось в живот, как бывает всегда во сне, когда летишь вниз. Повыше его в таких же качелях плыл начальник главка, еще выше – секретарь райкома, над ним, совсем высоко – министр; внизу, далеко, плыли почти рядом Петр Евсеевич с Полиной Аристарховной и улыбались.
– Как они попали сюда? – удивился Александр Арменакович, – они же беспартийные.
Но долго удивляться было ему некогда. Он вдруг заметил, что качели плывут в воздухе в несколько рядов. Те, что оказываются слишком близко к Молоху, плавятся от жара и сидящие в них исчезают. Другие, напротив, оказываются слишком далеко, в тени.
– В вечной тени, там полюс холода, – понял он во сне. – Но куда я лечу? Зачем? Какой в этом смысл?
Смысла, однако, не было. То есть он не мог понять смысл.
– Пирамида, отчего пирамида? – невнятно пробормотал он, но опять не успел додумать. Солнце яростно накатилось на него, словно он оказался слишком близко к Молоху, и он открыл глаза.
Вокруг не было ни клочка тени, мерзко жужжали мухи, где-то за углом, словно железные колёса из его сна, надсадно ревела полуторка, какие-то мужики о чём-то громко и матерно спорили.
– Молох – это государство, – подумал он и снова закрыл глаза.
Из романа «Распад», часть III
Да, так вот что… Замок тогда заело, и он не смог закрыть ящик…
… Александр Арменакович принялся искать мастера. Это был часовщик, приземистый, лысый, – лишь на околице головы седина пушилась слегка как на облетелом одуванчике – с грубым, но и волевым простонародным лицом, дополняемым бородавкой у уха. И, однако – Мастер; он никогда не учился, не знал названий иным часовым деталям, но со всеми сложными работами отсылали именно и только к нему. И Анна Семёновна, отыскавшая этого человека первой, так и называла его – Мастер. Имя Мастера Александр Арменакович запамятовал, возможно – и не знал даже. Впрочем, и не надо было знать, удобнее, хотя и неловко поначалу было, по прозвищу – Кузькина мать. Часовщик кузьмился и матерился чуть ли не в каждой фразе, так что идиома эта прочно к нему прилипла.
Итак, пришлось идти искать Кузькину мать, хотя можно было и не идти: здравый голос подсказывал, что утром всё решится само собой. Идти, однако, было интереснее; к тому же дурманил запах французских духов, и далеко было до утра – голова раскалывалась; надо было только сказать утром Тамаре Николаевне, что нечего так душиться и переводить деньги.
В часовой мастерской Кузькиной матери не оказалось.
– Надоело с ним возиться, – объяснил заведующий. – У нас план, к светлому будущему, значит. А он всё химерами занимается. Часы придумал: «Догнать и перегнать Америку». Тьфу. Да если хотите, сами убедитесь, – и он указал, где живёт его бывший работник.
На звонок Кузькина мать откликнулся не сразу. Он был без рубашки и без майки, с жирной отвисшей грудью, в старых, прорвавшихся на коленях брюках и в затоптанных, надетых на босу ногу тапочках; под глазами у Кузькиной матери со времени первого их знакомства набрякли мешки и нос приобрёл лиловатый оттенок – ясно было, что все последние дни Кузькина мать закладывал. Он недоброжелательно и пристально разглядывал Александра Арменаковича, видно, никак не мог припомнить и от этого принимал за фининспектора, надзирающего, не занимается ли он ремонтом часов на дому.
– Ты не от этого ли бровастого прохвоста? – спросил он, наконец, указывая в сторону мастерской.
– Видите ли, я не имею к нему никакого отношения, -извиняющимся голосом отвечал Александр Арменакович. – У меня в столе замок…
Кузькина мать, не дослушав, кивнул головой и потащил Александра Арменаковича за собой в комнату.
В комнате на столе, накрытом скатертью, на серванте, на диване и даже на стульях и полу, всюду стояли будильники самых разных марок.
– Думаешь, я шабашкой занимаюсь? – подмигнул Кузькина мать. – Врёшь, Кузькина твоя мать, едреня-феня, я тут такое сотворить хочу… время ускорить…
– То есть как? – удивился Александр Арменакович.
– А вот так, – торжествующе опять подмигнул хозяин. -Время, оно относительно, Кузькина мать, еще Эйнштейн сказал. Вот я и задумал, – он перешёл на шёпот, – часы устроить, чтоб они с ускорением шли. Сначала правильно идут, по земным, значит, законам, а потом время, едреня-феня, ускоряться начинает. Всё быстрей и быстрей, значит. Я уж и решение было подготовил, а тут этот сукин сын…
– Да зачем это вам? – удивился ещё больше Александр Арменакович.
– Фу-ты, черт, Кузькина мать, – неужели не понимаешь? – старик сумасшедшими глазами уставился на Александра Арменаковича. – Или только притворяешься? До коммунизма ты хочешь, скажем, дожить?
Напрасно Александр Арменакович с присущим ему здравым смыслом пытался доказать, что Фёдор Никитич (он вспомнил, наконец, имя изобретателя) ускоряет вовсе не время, а только ход часов, потому что ход времени есть объективная, не зависящая от нас реальность. Фёдор Никитич его не слушал. Он затащил Александра Арменаковича в соседнюю комнату. Там, соединенные шестернями и поршнями, беззвучно и от этого особенно внушительно – и вместе, как в его, Александра Арменаковича, химерическом сне – крутились колёса разной величины и, приводимые ими в движение, вверх-вниз взлетали какие-то маятники-качели. Это устройство мучительно что-то напоминало Александру Арменаковичу, когда-то уже виденное, но что – этого он не мог сейчас вспомнить. Впрочем, вспоминать и некогда было. Федор Никитич снова потянул его за рукав.
– Иди сюды. Только никому ни-ни. Ни звука. А тебе я доверяю, – и он показал на трое одинаковых часов в углу. – Они будут у меня показывать мировое время. Представляешь, в Москве, в Париже, в Нью-Йорке – везде одно время, московское.
Фёдор Никитич хитровато хихикнул.
– Каждый час играют Интернационал.
– Он сумасшедший, – с ужасом подумал Александр Арменакович. – Или фанатик.
Надо было уходить, но Фёдор Никитич, вцепившись ему в рукав, продолжал демонстрировать свою коллекцию.
Часы «Всеобщее и полное разоружение» были старинные, в стиле барокко, только вместо светлокудрых ангелов их по краям обрамляли ракеты. Фёдор Никитич нажал на какую-то кнопку и ракеты тотчас упали. Заиграл гимн.
– Во, мелодия. Я, как раскулачивал на Украине, всегда заставлял сперва слушать гимн. Для воспитания…
– Да он сумасшедший, – снова подумал Александр Арменакович.
– Ты что, не слушаешь? – обиделся вдруг Кузькина мать и, неожиданно проворно при своей комплекции сорвав тапочек с короткой упитанной ножки, застучал им по столу. – Спишь ты, что ли? – заорал он; от этого крика Александр Арменакович хотел проснуться, но любопытство толкало его обратно, в дебри сна.
– Диалектика, понимаешь, диалектика, – начал было твердить Фёдор Никитич, успокаиваясь, но теперь уже Александр Арменакович перебил его:
– А эти ракеты зачем мелькают?
Ракеты, и в самом деле, продолжали крутиться перед циферблатом.
– А это ёж им в штаны, – усмехнулся Федор Никитич.
– Что? – не понял Александр Арменакович.
– Выпить бы надо, вот что. Без пол-литры не разберёшься, – Фёдор Никитич зубами открыл пробку и плеснул водку в замызганные стаканы. Потом он достал откуда-то сухари и молча макнул сухарь в свой стакан. – Ну, бывай здоров.
Они чокнулась. По мере того как Фёдор Никитич пил водку, сумасшедший блеск исчезал из его глаз, взгляд их становился терпимее и мягче. Он допил стакан, удовлетворенно крякнул и, не обращая внимания на Александра Арменаковича, который всё еще мусолил в руке свой стакан, снова налил себе. Выпив еще полстакана, он отставил бутылку в сторону и внимательно посмотрел на гостя.
– Ну, чего пришел?
Пока Александр Арменакович сообщал ему про оказию с замком, он хитровато щурился, полузакрыв правый глаз, и вдруг зловредно хихикнул:
– Выпустил я вам джина из бутылки. Пускай теперь этот недоумок старается. В ящике-то что? Письма?
– Письма, – подтвердил Александр Арменакович.
– Насчет царской фамилии? Александр Арменакович снова кивнул.
– А это я постарался, – картавя, кто-то третий вошёл в комнату и так же, как Фёдор Никитич, прищурил глаз.
В этот момент за спиной у Александра Арменаковича что-то грохнуло, дым окутал комнату и часы почему-то затрещали все сразу. Вечный двигатель или Молох (теперь он вспомнил название), перевёрнутый, лежал на полу, колеса беспомощно, судорожно крутились и откуда-то из-под пола шёл дым. Потом что-то опять грохнуло и колёса, все так же крутясь, но больше ничем не удерживаемые, покатились в разные стороны.
Фёдор Никитич или тот, второй, картавенький, – Александр Арменакович не успел разглядеть кто, – протяжно выл:
– Она же у меня на чистом спирте работала.
Видно, сила взрыва совместила стрелки часов и теперь все они нещадно звонили, показывая половину восьмого по мировому времени. Этот звон был так настойчив и силен, что Александр Арменакович, наконец, оторвал от постели голову, выпростал руку и выключил будильник. Жены в постели уже не было, но от её подушки по-прежнему исходил сильный, приторный запах французских духов. Комната была полна солнца и запаха гари – на кухне пригорело мясо. От этого Александр Арменакович на миг почувствовал раздражение к жене, но, по мере того как он просыпался, мысли его принимали другое направление.
– Неужели я не закрыл ящик? – думал он теперь, чувствуя, как нарастает в нем тревога. – А ведь там письмо от Лены…
Примечания:
1. «Люди у нас не родятся, родятся организмы, а людей у нас делают» – здесь несколько изменено высказывание Т.Лысенко на знаменитой сессии ВАСХНИЛ 1948 г.
2. «Грабь награбленное» – лозунг, выдвинутый В.И.Лениным. Собр. соч., т.36, изд.5, стр. 269.
3. По договору отдали Гитлеру – имеется в виду советско-германский пакт о ненападении от 1939 г. (Пакт Молотова-Роббинтропа)
4. Надпись «Каждому своё» была на воротах Освенцима.
5. Варлам Шаламов – автор «Колымских рассказов», много лет провел в лагерях.
6. Пролы – термин взят из книги Оруэлла «1984 год». Означает полурабов-пролетариев.
7. Дашнаки – бойцы армянского ополчения в период Гражданской войны.
8. Молох – жестокий языческий бог древних государств междуречья Тигра и Евфрата, которому приносили человеческие жертвы, чаще всего младенцев.