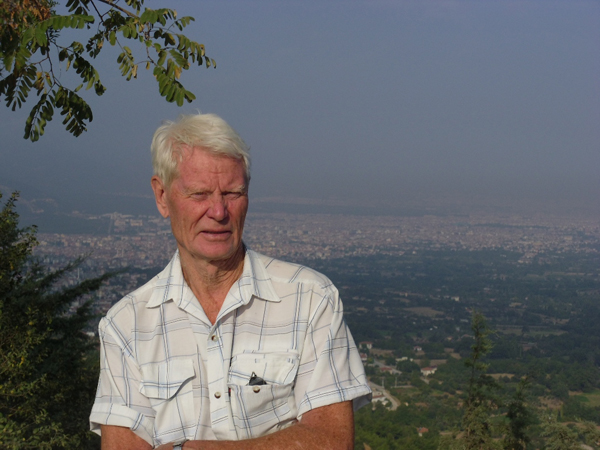День Победы
1
Этот день отложился в моей памяти навсегда. Как фотография, заложенная между твёрдыми картонными листами старого альбома. Она лежит там, забытая, и очень редко в суете нынешнего времени мы находим эти старые свидетельства пережитого. Но приходит день, и пережитое прошлое вдруг проступает, оживляя давно прошедшее время яркими красками чувств.
Это утро было обнажённо солнечным. В Центральном Казахстане весна наступает поздно, съедая остатки снежных заносов в оврагах и редких кустарников в степи, высушивает каменистую землю, и она, беззащитно голая, застыла в ожидании майских ливней, чтобы отпраздновать свою короткую весеннюю свадьбу, когда в один день безбрежная степь одевается в изумрудный, рубиновый, янтарный наряд и лопаются почки степной акации и кустов карагандика, выпуская трогательно нежную, детскую листву. Я, восьмилетний, иду с алюминиевым бидончиком по улице моего посёлка № 24 в другой его конец за молоком. Там живёт мамина хорошая знакомая Степановна, одна из немногих в посёлке, кто держит корову и делится полулитром молока с нашей большой семьёй. Ходить за молоком – ответственное и серьёзное дело, не всякому можно доверить. А зимой это ещё и тайное удовольствие, потому что если поболтать бидончиком, то молоко бархатистыми иглами намерзает на крышке, и можно языком слизывать томительно вкусное мороженое.
Утро было ранним и безлюдным. И вдруг неожиданно посёлок ожил. Распахивались настежь двери хат, и из них выбегали женщины, полуодетые, с наскоро накинутыми на плечи платками, они кричали, обнимались и… плакали. «Кончилась война!» – объявили только что по радио. Ни одно горе, ни одна беда не вызывали столько бабьих слёз, сколько эта радость. Потому что прорвалась плотина непосильного женского терпения, кончилось время лишений, ожидания писем и похоронок, и можно было уже не сдерживать безутешных вдовьих слёз. В этот день напрасно ходил по домам дед Петро, с палкой выгоняя баб на работу. Посёлок плакал и смеялся, горевал и радовался, празднуя конец войны.
К нам прибежала соседка Валентина:
– Симка, одевайся, айда к Зинке, она за тобой послала, там все бабы собираются.
Для Зинки Роговец, поселковой франтихи, мама сшила особенное платье. В заначке у Зинки был отрез красного сатина в крупный белый горох. Где достала отрез, Зинка помалкивала, только чтобы платье было с юбкой-колоколом, рукавами-фонариками и чтобы с поясом. А когда платье было готово, лучшая подруга Валентина только руками всплеснула:
– Ай, Зинка, красота-то какая, загляденье, право! А ну покрутись! Ну прямо пава какая!
Зинка цвела алым цветом в своём пунцовом платье и не знала, как отблагодарить портниху. Зинкина хата стояла на другом конце посёлка, на взгорке. Её муж был знатным бригадиром, и хата была самой большой и богатой, даже с тюлем на окнах, чего даже у самого председателя Попова не было. Только вот детей им Бог не дал. Но началась война, ушёл Петруха на фронт – и с концами, сгинул. Стали собираться в Зинкиной хате молодухи-казачки, отлить душу, лузгали семечки и пели тоскливые казачьи песни. В проклятом тридцатом их привезли сюда эшелоном с Дона и Кубани семьями, с малыми детьми и стариками, выбросили в голой, безлюдной степи. Они выжили. Они научили эту бесплодную землю родить хлеб, они строили эти безымянные номерные посёлки: номер двадцать три, номер двадцать четыре, номер двадцать пять… как в сталинских лагерях. Поднимали местный колхоз, названный «Трудовым», и сделали его передовым в районе.
На этот раз в Зинкиной хате царила суета. На большом столе посреди горницы стояла невесть откуда возникшая литровая бутыль с самогоном, и бабы натащили в мисках и горшках у кого что было.
– Ой, девки, день-то какой! Война кончилась! Только кто нам заменит мужиков наших? И твоего, Зинка, и твоего, Валентина, кто нам вернёт их, тех, кто не вернётся никогда? Давайте же выпьем горькую за них, родимых, да за долю нашу вдовью. Видно, век нам, безмужним, горевать. Только не чокаться, не чокаться, девки.
Выпили за мужиков своих пропавших, потом за горе своё вдовье, потом ещё, и вот уже, обнявшись, ревели неутешными пьяными слезами. Война кончилась, и четыре прошедших года чередой воспоминаний вставали перед ними. Как провожали мужей на фронт, как учились делать тяжёлую, неженскую работу. «А ты помнишь?» – говорили они друг другу.
Сима помнила. В сорок первом её с пятерыми детьми и двумя стариками выселили сюда из Москвы, русскую женщину, носившую по мужу немецкую фамилию, и назначили учётчиком-заправщиком полеводческой бригады.
Сима встаёт рано, ещё до света, пока все спят. Ей предстоит пешком за пять километров на Красный Стан, в её бригаду. Деревянным ходулей-саженем она промеряет, что вспахано и засеяно бригадой. Шагает и шагает двухметровый сажень по дну крайней борозды, и с ним шагает Сима. «Одиннадцать, двенадцать… двадцать три… Не сбиться бы со счёта, а то придётся мерить заново… Сорок пять, сорок шесть… Ноги уже не слушаются. А до конца ещё далеко. Досчитаю до двухсот и передохну». Сима слюнит химический карандаш и делает пометку в тетради. Нужно дойти до конца и замерить поперёк. А поперёк идти ещё труднее, ноги вязнут в пахоте, земля набивается в самодельные чувяки, подвязанные бечёвкой. Ещё нужно проверять деревянной линейкой глубину вспашки, должно быть не меньше четырнадцати сантиметров. Целых полдня она проверяет вчерашнюю работу, еле притаскивает к полевому вагончику ноющие ноги. Теперь предстоит самое тягостное – подсчёт итогов. Сажени продольные умножить на сажени поперечные, перевести в гектары, подсчитать, кто выполнил, а кто не выполнил норму. За выполненную норму зачисляется три трудодня, за невыполненную – один трудодень. Ещё предстоит снять остатки керосина, проверить расход… Сима сидит до вечера, испещряя тетрадь расчётами. Норма на трактор – три гектара в день. А как выполнить норму на стареньком, изношенном СТЗ? Трактористки – сплошь бабы за тридцать, молодым не осилить. Во время страды они живут на стане безвылазно. Рано утром разминают затёкшие ноги и спины, стаскивают с нар мальчишек-прицепщиков.
– Грицко, хватит дрыхнуть, царствие небесное проспишь.
– Ой, тётка Матрёна, дай ещё хвылыну поспаты.
– Яку тебе хвылыну, твою мать! А ну вставай, гадёныш, робыты трэба!
Гришке – тринадцать, он малорослый и худющий, от пыли и грязи волосы его слиплись в колтун, тощие руки – в незаживающих цыпках, глаза воспалены и гноятся. Гришкин отец ушёл на фронт, мать работает на ферме, да всё болеет, а трёх меньших кормить надо, и Гришка – за взрослого, зарабатывает трудодни. Его шатает на ходу, а с утра нужно заправить трактор – пять вёдер керосина из бочки за забором донести до трактора, подать тётке Матрёне наверх. Вёдра оттягивают руки, керосин плещется.
– Ты что, паразит, проливаешь горючку?! Я вот твоей матери скажу, она тебя отлупит, скотину.
Ещё ведро воды – в радиатор. Теперь – завести сэтэзэшку. Заводится он от шнура. Ночью было холодно, масло в картере схватилось, не провернуть, и тётка Матрёна наматывает на палку тряпьё, суёт в масло и факелом отогревает картер, отворачиваясь от едкого дыма. Отогретый движок начал проворачиваться, но заводиться не хочет, кашляет, пускает сизые кольца дыма. Раз за разом Матрёна дёргает шнур, проклиная и клятую сэтэзэшку, и долю свою бабью, и весь белый свет.
– Тётка Матрёна, а тётка Матрёна, дай-ка я спробую.
– Ну давай, Грицко, а то все руки оборвал, паразит!
Чудо свершается. На третий раз трактор пускает струю чёрного дыма и взрывается рёвом.
– Грицко, беги на кухню да на меня возьми. Счас прогрею и приду.
Земля сегодня тяжёлая, пахать придётся на первой скорости, а это значит, что часов восемь-девять нужно для выполнения нормы. Всё это время Гришка будет сидеть на стальной сидушке плуга, отплёвываясь от пыли, протирая глаза. Его задача – следить, чтобы плуг не зарывался и не выскакивал из пахоты, а ещё, когда трактор доходит до конца загона, рукоятью поднять плуг и опустить в начале борозды, и он тянет рукоять из всех своих сил, а ночами саднят мальчишеские руки, дрожат от тряски. Медленно ползёт, грохочет трактор, а Матрёне нужно следить, ворочать тяжёлую стальную баранку, чтобы направляющий посох точно шёл по борозде, иначе – огрех, и придётся заново проходить, запахивать огрех. Осеннее солнце светит в лицо, Матрёна клюёт носом, и пошёл трактор вправо, вправо… Тогда Гришка соскакивает со своего плуга, догоняет трактор и длинной, заранее припасённой хворостиной колотит по кожуху.
– Тётка Матрёна, тётка Матрёна, проснись, трактор с борозды ушёл!
Поздно вечером, по возвращении, если трактор не сломался, не заглох, Гришка гордо сидит за рулём. Через год ему самому можно в трактористы.
Вечером в бригадный балок сходятся трактористки, окружают Симу.
– Ну как там у меня вчера?
– У тебя, Матрёна, норма есть, даже с запасом, а вот у Галины не хватает до нормы.
– Как это, не хватает? Ты что это? Есть у меня норма, сама проверяла. Ты, Сима, ошиблась.
– Смотри сама. На третьем участке – это твоя пахота? Твоя, и по глубине, и по огрехам вижу, что твоя. Ноль девяносто три от нормы. Не веришь – пойдём перемерим.
– И пойду! Ты мне всё время недомеряешь! Думаешь, муж погиб, так со мной всяко можно?
Галину всю трясёт от горя, от нечеловеческой усталости, от беспросветной этой жизни. На прошлой неделе она получила похоронку на мужа, остались трое детей да инвалидка свекровь. Всех нужно кормить, а трактор ей достался никудышный, всё время перегревается, кипит, и нужно останавливаться, доливать воду, давать ему остыть. Они идут с Симой в ночь перемерять, да Галина останавливается, машет рукой:
– Ладно, Симка, верю тебе, только скажи мне: чем мне своих кормить?
Они возвращаются в балок и всем скопом решают, как помочь Галине.
– Давай так, Симка. Ты сказала, что у меня излишки, вот ты их Галке и засчитай, чего не хватит – натянешь. Ты баба умная, цифири свои и погоняй, а то совсем Галка от горя изошла.
Сима возвращается в посёлок в темноте, унося тетрадку с записями тяжкого труда этих женщин. Завтра ей предстоит выложить председателю Попову, кто как работает, председатель будет ругаться. Как будто она, Сима, виновата, что ломаются трактора, что нет запчастей, что на исходе женские силы.
А сегодня её ждут голодные рты детей и двух стариков.
Так они прожили четыре военных года. Но теперь кончилась война, и всё пойдёт по-другому, по-новому…
– Ша, девки, – вдруг встряла Матрёна, старшая среди казачек, – хватит сырость разводить, ещё успеем нареветься, давайте-ка споём лучше, утешим душу. Вот ты, Зина, и начинай, только сердечную самую.
Зинка, как и положено, стала отнекиваться, жеманиться, но бабы замахали руками, загудели, закричали:
– «Брови чёрные» давай, Зинка!
И она вдруг посерьёзнела, побледнела, и в наступившей тишине возник высокий, негромкий, мятущийся голос:
– Ой, брови маи чё-орнаи, глаза развесё-о-олаи…
Дробным частоколом подхватили подруги:
– Ой, брови маи чёрнаи, глаза равесё-о-лаи.
И снова рвался, выбирался на простор Зинкин голос:
– Ой, мова мужа до-ома нету, и я ево бою-у-уся…
Крепнущий подголосок подтвердил:
– Ой, мова мужа дома нету, я ево бою-уся.
– Ой, боюся, ой, боюся, пойду к Дону-у-у утоплю-у-ся, – жаловалась Зинка.
– Ой, боюся, ой, боюся, пойду к Дону утоплюся, – неумолимо наступал подголосок.
Зинкин голос окреп, опираясь на частокол подпева, неслась, летела песня о девичьей доле, что выдали за нелюбимого, злого мужа. О милом дружке, без которого жизни нет, только встречаться с ним никак не можно, и одна у девицы путь-дорога. Песня оборвалась на высокой ноте, и стало тихо в горнице.
– Ой, Зинка, совсем ты нас засумовала, – прервала тишину Матрёна, – давай-ка весёлую, – и запела низким, грудным голосом:
– Ой, скажи мне, жинка, скажи, утешь мене-е-е…
– Чи взять тэбе замуж, чи бросыть тебе, – дружно подхватили бабы.
Моя мама сидела в уголочке и заворожённо слушала. Пели «Скакав козак через долину» и «Ой, при лужку, при лужку, на широком поле». Женщины раскраснелись, обмахивались платками и пели, пели…
– Ой, девки, запызнылысь мы, – опомнилась Матрёна, – давайте останнюю.
– Роспрягайте, хлопцы, кони та лягайте спо-очивать, – завела она, и все подхватили натужными, нутряными
голосами:
– А я пиду в сад зэлэний, в сад крыныче-еньку копать.
Бабы старались вовсю, надсаживая глотки, надувая жилы:
– Шо я вчёра, извечёра краще тэбэ полюбыв.
Буйно неслась, шумела песня, и словно не было страшной войны, и словно там, за стеной, спали возродившиеся из пепла хлопцы, распрягшие коней, а за тёмными окнами простиралась не казахстанская степь, а привольный Дон со склонившимися к воде вётлами.
Вскоре стали возвращаться в посёлок фронтовики. Всего-то вернулось их четверо из двадцати двух. На шестнадцать пришли похоронки, а двое пропали без вести. Больше всех повезло Наталье Левченко. Вернулся её Степан, привёз два чемодана диковинного немецкого добра, и Наталья хвасталась соседкам, показывая шёлковые платья и чулки. Чулки были телесного цвета и липли к заскорузлым Натальиным рукам. А Марьин мужик пришёл без ничего, с одним мешком солдатским.
– Мой-то, дурак, – рассказывала она, – с пустыми руками вернулся. Говорит, зашёл в немецкий дом богатый, а там женщина с детишками ихними, фашистскими отродьями, на колени перед ним стала, плачет. Пожалел он сучку эту, ничего не взял. Ну не дурень? Все ж везут, а мой…
Двое вернулись из госпиталя. Николай Буряк – без руки, а другой Николай, Аннушкин, – на костылях, с култышкой вместо левой ноги.
Вернувшихся чествовали в колхозном клубе. Они сидели в президиуме за столом с красной скатертью, приехавший из района представитель говорил с трибуны о победах и подвигах советского народа, а они смущённо озирались и потели. Они знали войну не по газетам и лозунгам, а как тяжёлую мужскую работу, в окопной грязи и во вшах, с грохотом снарядов и бомб, с кровью ран и со смертью, стерегущей солдата на каждом шагу.
2
Май пятидесятого года застал меня в шахтёрской Караганде, куда наша семья бежала с Урала, спасаясь от голода. Мой отец, единственной виной которого была доставшаяся по наследству немецкая фамилия, провёл войну в уральских лагерях. В Москве он работал главным бухгалтером на кондитерской фабрике имени Марата, а на Северном Урале валил лес. В сорок седьмом он получил разрешение вызвать семью, и мы стали жить в небольшом городке Верхотурье. Но настал сорок восьмой, и в стране начался голод. Голод неумолимо наступал на измученную войной, полуразрушенную страну.
Четыре года стиснув зубы люди держались во имя великой цели – защитить страну от захватчиков, гибли под пулями и бомбами, шли в атаки под свинцовыми пулемётными ливнями, работали у станков, пока держали ноги, спали в кабинах тракторов. Но кончилась война, и распались скрепы железной военной дисциплины, страна закружилась в угаре послевоенного освобождения, в хаосе людского водоворота. С запада на восток, домой, возвращались отвоевавшие солдаты, с востока на запад, домой, возвращались эвакуированные. Забитые под завязку поезда и железнодорожные вокзалы, транспортный коллапс, разруха и неразбериха сковали страну. Куда-то пропало запасённое на посев зерно, почему-то посеяли первой послевоенной весной не вовремя и как попало, и семян не хватило. Лето выдалось засушливым, урожай собрали половинный, а запасы Госфонда ушли на помощь братским народам Европы. Страна-освободительница помогала освобождённым. Только освободительнице некому было помогать.
Террикон шахты «31-бис» устремлён в небо гигантским конусом рукотворного вулкана, изрыгающего из недр их содержимое. Крохотной чёрной мухой ползёт по склону вагонетка, наполненная породой – пустым, лишённым угля камнем. Вот она достигла вершины, переворачивается, и летят вниз чёрные глыбы. Среди породы встречаются куски угля, и ползают по склонам люди с мешками, собирают уголь, увёртываясь от летящих сверху бомб. В четыре часа надрывно гудит гудок на шахте рядом с нами, и из преисподней вываливается шахтёрская смена. Огромные, могучие, страшные люди, чёрные с головы до ног от угольной пыли, на чёрных лицах пугающе сверкают белки глаз, над козырьками шахтёрских касок – электрические прожекторы, а от них, как у марсиан, змеями тянутся жгуты проводов к сумкам на боку. Шахтёры шагают плечо к плечу, широко загребая громадными резиновыми ботами, идут по улочкам нашего посёлка, расходятся по домам. Как степные ласточки лепят свои гнёзда, так же строятся мазанки-дома в шахтёрском Шанхай-городе из степного материала – глины, смешанной с соломой, лепятся один к другому без разрывов, длинной, вихляющей кишкой. Между домами вьются грязные, узкие, ухабистые улочки. Первая Загородная улица, Вторая Загородная, Третья… Шестая… Десятая Загородная… Трудно здесь почтальонам, нет вывесок с названиями улиц и номеров домов. Но люди все знают друг друга. Вся жизнь выплёскивается на Загородные улицы из тесных хат вместе с помоями, с золой из печек.
– Вам Титаренковых? Тех Титаренковых, у которых бабка Прасковья давеча померла или у которых сына посадили? А, так те Титаренковы не здесь, а на Пятой Загородной живут. Так вы чуток вперёд, там проулок будет, а там направо поверните. Там спросите.
Мазанки низкие, в рост человека, прямо с улицы за низкими деревянными дверями – три глиняные ступеньки вниз, окошки у мазанок маленькие, чуть выше уровня земли, так что в них – только ноги мимо идущих. Воду жители берут вёдрами из редких колонок, на коромыслах несут через две улицы.
Живут в загородном посёлке разные люди.
Шахтёры. С траурными ободками вокруг глаз. Шахтёрам на работе дают мыло, драгоценные тёмно-коричневые бруски, но угольная пыль неистребимо въедается в веки – не отмыть. Временами над шахтёрским Шанхаем проносится тревожный шёпот: «На шахте “первой-бис” завалило!» Молчаливое, неумолимое оцепление вокруг шахты, распахнутые от ужаса глаза женщин. Томительные часы, сутки… Через оцепление медленно проходят спасённые, поднятые на-гора шахтёры, женщины бросаются к ним: «Моего видели?» Спасённые бредут молча. Они долгие часы провели в глухой темноте забоя, они ещё не отошли от холодного дыхания смерти. Их спасли. А сколько осталось там? Спасут ли их?
Инвалиды. Победители Европы, защищавшие Родину, увешанные орденами, потерявшие на войне руки, ноги, глаза. Отчаявшиеся, выброшенные Родиной в безработицу и бесправье, потерявшие родной дом, родных и близких, брошенные жёнами, не пожелавшими возиться с калеками. Миллионы людей с искалеченными телами и душами. Теперь их используют те, кто выжил в войну, отсиделся в тылу. Содержатель притона для инвалидов утром вывозит потерявших волю калек на службу – просить милостыню, демонстрировать для жалости свои страшные раны, вечером забирает их в притон, отбирает медяки ради стакана водки на ночь, получает за них на почте жалкие пособия, которые им платит Родина.
Спекулянты. Это торговцы разным товаром на базаре. Если идти вдоль забора шахты, мимо Загородных улиц, то за последней, Десятой, откроется огромный пустырь. Это и есть базар. Тут торгуют всем: испечёнными за ночь булочками и пирожками с морковью и картошкой в корчагах, стоящих прямо на земле, хлебом. Хлеб не продаётся в магазинах, он даётся по карточкам, но на базаре торгуют хлебом: и только что испечённым, и позавчерашним, чёрствым; домашним вином и брагой в мутных бутылках, заткнутых газетными пробками; разной одеждой, новой и старой, ношеной. Торговать водкой строго запрещено, но водку, как и любой товар, можно купить, стоит лишь обратиться к субъектам в кепках-восьмиклинках с бегающими глазами и золотыми фиксами, шныряющим в толкучке. «Чего надо? Пошли за мной». Озираясь, отведут за угол, где уже как по волшебству ожидает тебя нужный товар. Продадут по сходной цене, а если ты лох, то ловко разведут, обманут, оберут и исчезнут мгновенно. Здесь измождённые люди продают остатки довоенных вещей ради куска хлеба. Здесь торгуют ворованным, уведённым с базы, не попавшим в магазины. А у входа на корточках перед разостланными ковриками сидят напёрсточники, артистично надувающие простодырых зевак.
Грабители и воры-домушники. Они отсыпаются днём, а ночами выходят на промысел. Ночами Загородный посёлок погружается в тревожную тьму. Каждую ночь здесь кого-то раздевают, грабят, убивают.
Девятое мая – рабочий день, но сегодня вечером после работы собираются люди, чтобы вспомнить и помянуть то, что произошло в то лихое военное время. Я отпрашиваюсь – сходить поздравить нашего соседа, дядю Петю Крупенникова. Дядя Петя – бригадир проходческой бригады, он велик ростом, широк в плечах и силён как бык. На суровом, изрезанном морщинами лице дяди Пети живут добрые васильковые глаза. Войну он прошёл фронтовым разведчиком. С замиранием сердца я представлял, как ночью, неслышно проползая за линию фронта, он, словно барс, хватал и пеленал немецких языков, тащил их на себе, как кутят, и доставлял в штаб. Но незадолго до конца войны он попал в передрягу: началось неожиданное немецкое контрнаступление, и дядя Петя оказался отрезанным в тылу врага. Целую неделю он таился в лесу, питался ягодами, пока не вышел к своим, и его, измученного, еле стоявшего на ногах, три дня допрашивал майор НКВД, составлял досье. Петро уже не помнит, что он бросил в сытое лицо майора. А за день до окончания войны дядю Петю забрали в Смерш, предъявили обвинение в измене Родине, в сотрудничестве с врагом, лишили всех орденов и медалей и сослали в Карлаг, на шахту. Дядя Петя пробился, он лучший бригадир проходчиков на шахте, но его нельзя награждать, он условно освобождённый.
Вечером Петро Трохимыч собирает свою бригаду. Они все прошли войну и боготворят своего бригадира. Жена, худенькая и молчаливая Стеша, проворно собрала на стол и ушла к соседям. Хлопцы приходят чисто отмытые после забоя, в торжественных костюмах и белых сорочках, из-за их спин протискиваюсь я с тарелочкой, на которой лежит кусочек испечённого мамой пирога.
– А, это ты, пацан. Ну проходи, проходи, садись. Тебе ещё водку рано, вот тебе чарка красного, не повредит, только матери молчок. Ну что, хлопцы, наперво помянем тех, кто остался там, товарищей наших, чьи кости гниют в земле, нашей и чужой. Царствие им небесное и вечная память.
Хлопцы, в чёрных строгих пиджаках, встают, строго смотрят прямо перед собой глазами с траурными шахтёрскими ободками, молча выпивают водку. Идёт неспешный тихий разговор о делах шахтёрских, о событиях фронтовых. Но после третьего гранёного стакана красные пятна начинают проявляться на лице дяди Пети, незабытая, затаённая обида выплёскивается наружу.
– Гнида энкавэдэшная! Всю жизнь мне испоганил. Всю войну в блиндаже просидел, носа не высовывал, пузо своё майорское отращивал! Да я не за него, я за Родину воевал и ордена свои, что отобрали, честно заслужил. Сколько они нашего брата извели! За что это? Попадись он мне сейчас, своими руками бы удушил! – И дядя Петя сжимает свой огромный, чуть не с мою голову, кулак.
– Петро Трохимыч, успокойтесь, х… с ним, с майором этим, – уговаривают его хлопцы. – Его самого, небось, Берия расстрелял. И правильно сделал. Давайте лучше выпьем за всё хорошее и чтобы не было войны.
Расходятся поздно, но все на своих ногах, завтра утром на работу, а бригада Крупенникова всегда была и будет на высоте. А посёлок нет-нет да оглашается женскими воплями. Перепившиеся шахтёры лупят своих хмельных жён – за невымещенные обиды, за жизнь беспросветную.
3
В мае узбекская степь ненадолго расцветает ковром ярко-зелёной травы и морем алых тюльпанов. Гусеницы танков вязнут во влажной весенней земле, разомлевшей от весенних ливней, и стебли тюльпанов наматываются на танковые траки. Сегодня девятое мая, и в Ташкентском танковом училище особый, ритуальный день. У начальника училища генерал-майора Кошелева свои счёты с прошедшей войной. Он прошёл Гражданскую командиром эскадрона в коннице Будённого, в тридцатых на командирских курсах переучивался на танкиста и прошёл всю войну от западных границ до Волги и от Волги до Варшавы в бронетанковых войсках, от командира взвода до командира дивизии. Он встретил Победу под Прагой и теперь каждый год отмечает день 9 Мая как величайшее событие в жизни армии и своей лично, проводит торжественный смотр училища и праздничный ужин. Это его Великая Победа, и она будет таковой, какие бы правители ни приходили к руководству страной. А теперь восстановилась справедливость, и министром обороны стал Маршал Победы Георгий Жуков.
В танковом батальоне обеспечения, где служу я, до обеда – обычный будничный день, день политзанятий. Взводный – тонконогий и кривоногий, как таракан, лейтенант Маркелов – читает лекцию «СССР – победитель в Великой Отечественной войне». Под мерный голос лейтенанта слипаются глаза, клюют носы. Я толкаю под бок Сашку Махибороду:
– Сашка, не спи.
Не меняя интонации и не повышая голоса, взводный оглядывает класс.
– Только благодаря Советской армии была сокрушена мощь гитлеризма… Кто спит – ВСТАТЬ! – Вскакивают трое. – Так, – мстительно тянет взводный, – на политзанятиях спали Круглов, Гребёнкин, Луночкин. По наряду вне очереди каждому!
Солдаты не любят политзанятия, они предпочитают работу с техникой.
В боксах чутко спят гиганты – добрые зелёные динозавры – танки, принюхиваются длинными хоботами пушек, поглядывают, посверкивая глазками прицелов, ждут своих повелителей. Он приходит, маленький, в чёрном комбинезоне, одним ловким движением акробата, извернувшись, ногами вперёд ввинчивается в люк, и зелёное чудище оживает. Радостно взревев, шлёпая лапами гусеничных траков, выползает из своего логова, повернувшись на месте на одной лапе, стальная громада ускоряется. Спешит вырваться на простор, всё быстрее, быстрее. Рёв пятисотсильного зверя достигает апогея, а его повелитель, упёршись колбасками шлемофона в броню, ухватившись за рычаги, смотрит в узкую щель перископа. Гремят, стреляют торсионы катков, человек и машина сливаются в единое целое, и сорокатонный стальной вихрь, покорный воле маленького человека, мчится, сметая все препятствия, проносится через канавы окопов, взлетает на пригорки, и нет на свете преграды, чтобы остановить эту мощь.
Хозяева этих машин, их повелители и слуги – солдаты танкового батальона: механики-водители, наводчики орудий, заряжающие. Они любовно моют и чистят танки, солидольными шприцами набивают подшипники, смазывают все шарниры и суставы, щелочным раствором промывают после стрельб стволы орудий, а потом до зеркального блеска протирают их ветошью. А ещё подметают территорию, булыжниками мостят танковые дороги, из глиняных саманов строят танковые боксы, а во время перекуров в курилках смолят газетные самокрутки с суровой солдатской махрой.
Добродушные динозавры позволяют этому муравьиному люду залезать в своё нутро и колдовать там с ключами и отвёртками. Завтра – выезд. Завтра утром придёт сюда на очередное занятие взвод курсантов – будущих офицеров, майор с планшеткой на боку выстроит их перед строем танков и будет долго что-то объяснять им, размахивая руками. Потом он крикнет: «По машинам!» – и курсанты, как стайка вспуганных воробьёв, разлетятся по экипажам, включится радио головной машины: «Я – сокол-один, я – сокол-один, доложите готовность, я – сокол-один, приём», и сразу эфир наполнится ответами: «Я – сокол-два, я – сокол-два, к выезду готов, я – сокол-два, приём», «Я – сокол-три…» – и танки, строясь в змеящуюся колонну, потянутся к выездным воротам.
Но сегодня день строевого смотра, и после обеда батальон лихорадочно готовится к этому беспокойному событию. До зеркального блеска начищаются сапоги, асидолом чистятся пуговицы, бляхи ремней и звёздочки парадных картузов, утюжатся мятые гимнастёрки, подшиваются белые подворотнички на парадные мундиры. Туго, пальца не просунешь, затягиваются солдатские ремни. Приехал командир третьей роты капитан Берёзко, и старшина Никитин выстраивает нас на предварительный осмотр. Берёзко прошёл войну от рядового до капитана, в войну
всё было просто и понятно, а теперь приходят под его начало молодые лейтенантики, умники, молоко на губах не обсохло, и плохо скрывают ухмылки от его малограмотной речи, от его крестьянского белорусского акцента. Если в ближайшие пять лет он не дослужится до майора, попросят Берёзко на пенсию, а до майора ему грамотёжки не хватает, и Берёзко откровенно трусит начальства, суетится, шаркает подошвами капитанских сапог. Наш взводный, артист Стёпка Мешков, на потеху очень похоже представляет на солдатском досуге изгибы и шарканья ротного.
– Старшина Никитин, почему рота ещё не выведена на плац?! – торопится Берёзко.
Старшина – строгий и справедливый, красавец строевик, сверхсрочник, прошёл войну, знает нужды солдат и старается нас, желторотых, оберегать и защищать, за что мы его обожаем и готовы за ним в огонь и воду. Мне повезло служить в части, где тон и порядок задавали фронтовики-сверхсрочники – сержанты и старшины. Они относились к нам как к неразумным детям, учили, как наматывать портянки, как сохранить бодрость в среднеазиатскую жару, учили водить и обихаживать танки.
На училищном плацу выстраивается весь личный состав. Ротные командиры бегают вдоль строя, глазом целясь, чтобы все выстроились в одну чёткую линию. В ворота училища въезжает чёрный лимузин, и сам генерал, малорослый кавалерист, переваливаясь, как утка, на коротких ногах, подходит к плацу. Начальник штаба, моложавый и стройный полковник, командует:
– Училище… смирно! – и строевым шагом, высоко поднимая и вытягивая носки, левая рука прижата к туловищу, правая – у околыша фуражки, встречает генерала. – Товарищ генерал, личный состав училища для торжественного смотра построен.
Начальник не торопясь проходит вдоль строя, вглядываясь в напряжённые лица, останавливается перед фронтом:
– Здравствуйте, товарищи…
Вдохнув и отсчитав «раз-два», мы дружно орём:
– Здра… жла… тварщ… гнерал!
Врастяжку, с одышкой раздаётся сиплый генеральский голос:
– Поздравляю вас… с десятой годовщиной… Великой Победы… над фашистской Германией!
И раскатами проносится над строем:
– Ур-ра-а-а, ур-ра-а-а, ур-ра-а-а…
Звучит голос полковника:
– К торжественному маршу… поротно… дистанция на одного линейного… первая рота прямо, остальные… напра… во! Р-равнение направо… шагом… марш!
Бравурными, ликующими звуками «Прощания славянки» взрывается оркестр, и мы шагаем, высоко поднимая носки, с остервенением топая по плацу. Я – самый высокий в роте, извечный направляющий – иду в правой шеренге, прижав руки к бёдрам, стараясь не свернуть, точно попасть на воображаемую линию строя, а по мне, скосив глаза направо, равняется вся рота. От звуков оркестра, от сознания, что я на виду у всего генеральско-полковничьего командования, принимающего парад, я шагаю как заведенный механизм, и волна восторга от причастности к Великой Победе охватывает меня.
Парад окончен, все расходятся по казармам, впереди – почти полдня полной свободы, а вечером в солдатской столовой праздничный ужин с макаронами по-флотски. А наши сверхсрочники – сержанты и старшины – запираются в каптёрке у Никитина и празднуют День Победы.
4
Ярким всполохом встаёт в памяти 9 мая шестьдесят пятого года – день ликованья всей страны. Нужно было пройти двадцати годам, чтобы в памяти народной забылось всё тёмное и горестное, чтобы размелись осколки тех страшных разрушений, что оставила самая страшная в истории человечества война, чтобы залечились её раны и язвы. В нашей стране любят праздники, и этот был обставлен достойно. Ряды войск, замерших на Красной площади в ожидании парада, торжественно-траурный голос диктора, тяжкие звуки метронома, отмеряющие Вечность, и – радостный взрыв оркестров, шеренги, печатающие шаг, танки и ракеты, проходящие мимо Мавзолея. Великая Победа, великий подвиг советского народа. Мощь нашей страны, спасшей человечество от фашистской чумы.
Накануне мы торжественно чествовали фронтовиков на нашем заводе. Всё меньше остаётся в живых тех, кто прошёл войну. На нашем заводе их осталось всего двое: Иван Ильич Ершов и Николай Иванович Стариков. Иван Ильич – начальник производственного отдела завода. У него густая шевелюра тронутых сединой волос. Толстые гусеницы бровей живут интенсивной жизнью, то поднимаясь удивлённо, то сходясь в напряжённом внимании. Он напоминает кряжистое дерево, иссушённое жизненными ветрами. Они трепали Ивана Ильича, но не согнули, только слегка ссутулили и прорезали его бронзовое лицо глубокими морщинами. Глаза в тёмных глазницах пугающе пристально смотрят на собеседника, но это только первое впечатление. Иван Ильич – человек редкой души и доброты. Он всегда подчёркнуто скромно и аккуратно одет, и женщины производственного отдела души не чают в своём Ершове, а начальники цехов не позволяют себе даже в мыслях возразить ему. Николай Иванович работает конструктором, он скромный, молчаливый и даже немного боязливый, замкнутый в себе. Каждое утро он, тяжело опираясь на трость, слегка поскрипывая своим протезом, поднимается по лестнице на третий этаж и занимает своё место в дальнем углу отдела, у окна. Николай Иванович работает не торопясь, но очень надёжно, не делая ошибок. Он живёт со своей немолодой женой в однокомнатной хрущёвке. Профком завода предлагал приобрести ему новый протез за счёт завода и материальную помощь, но Стариков упорно отказывается: «У меня всё есть». Иван Ильич провёл войну в Белоруссии, в партизанском отряде знаменитого Лобанка, а Николай Иванович – в пехоте, рядовым прошёл Белоруссию во время наступления в сорок четвёртом и потерял левую ногу под Кёнигсбергом.
Сейчас они сидят в президиуме, и ещё двое фронтовиков-пенсионеров, когда-то работавших на заводе, неловко смущённые. А наш партийный секретарь, необхватная Марья Абрамовна Евлоева, читает с трибуны присланный из райкома доклад о Великой Победе и великих подвигах, приказ по заводу: «…наградить почётными грамотами с вручением денежных премий…». И секретарь профкома Виталий Корниенко вручает им подарки в огромных картонных коробках. Потом мы оставили наших юбиляров на неофициальную часть. В заводской столовой был накрыт стол, мы выпивали, закусывали, поздравляли, а когда я попросил Ивана Ильича рассказать о героическом военном прошлом, он сразу посерьёзнел.
– Дорогие мои, настоящая война совсем непохожа на то, что нам показывают в кино. Когда нас выбросили в тыл в сорок втором, в Лепельском районе немцев почти совсем не было, только полицаи из местных да из присланных немцами власовцев. Тогда жили мы вольготно, и чувствовал Лобанок себя хозяином края и поход на Литву организовал. А когда в сорок четвёртом немцы собрали карателей и окружили нас, Лобанок первым драпал, оставил нас на произвол судьбы, вот тогда страшно было. Чудом вырвались из окружения. Это вот Николай Иванович помог, – кивнул он на Старикова. – Началось наступление, отвлекло немцев. Не хочу вспоминать об этом, лучше давайте выпьем за тех, кто остался в лепельских лесах.
– А вы, Николай Иванович? – нахальничал я.
– Что я? Впереди танки, артиллерия всё громит, сжигает. А мы пехотой, следом, – он запнулся, помедлил. – Только мы с винтовками трёхлинейными, а позади нас – энкавэдэшники цепью, с автоматами. Голодно было, кухни за нами не успевали. Зайдёшь в белорусскую вёску: «Хозяйка, бульба ёсь?» – «Ёсь, токо дробненькая…» Так вот и воевали…
Вечером заводской автобус развозил ветеранов по домам, слегка захмелевших, разгорячённых, с коробками подарков…
Идут годы, всё отдаляется то время, всё меньше остаётся живых свидетелей тех событий, и нынешнему поколению трудно представить, как и почему мы это пережили и победили. Эти события, эта война и победа стали символом и героической историей, в которой на самом деле было не так много героизма, а были тяжкий, нечеловеческий труд, горе, слёзы и терпение. Были предательства, измены и ложь, были жестокость и несправедливость. И были миллионы и миллионы жертв ни в чём не повинных людей.
Страшная война, выкосившая больше половины молодого, производительного мужского населения страны.
Мы празднуем этот день, чтобы эти события больше никогда не повторились.
Об авторе:
Эдуард Дипнер родился в Москве 14 декабря 1936 года. Окончил Уральский политехнический институт (заочно). Инженер-механик. Трудился начиная с 16 лет рабочим-разметчиком, затем конструктором, главным механиком завода. С 1963 года – главным инженером заводов металлоконструкций в Темиртау Карагандинской области, Джамбуле (ныне Тараз), Молодечно Минской области, Первоуральске Свердловской области, Кирове, а также главным инженером концерна «Легконструкция» в Москве.
С 1992 по 2012 год работал в коммерческих структурах техническим руководителем строительных проектов, в том числе таких как «Башня 2000» и «Башня Федерация» в Москве, стадион в Казани и др.
Пишет в прозе о пережитом и прочувствованном самим собой. Ранее нигде не публиковался.