Лазарева суббота
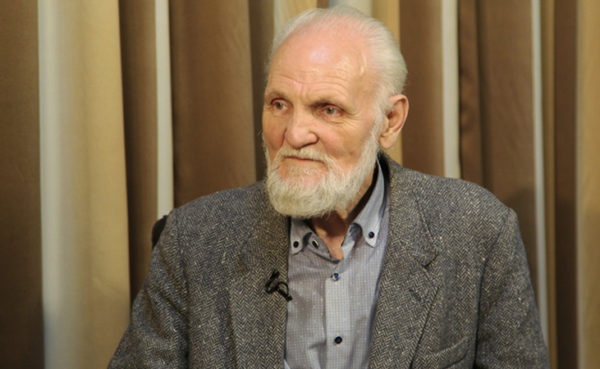
Рука дрожит, сильно дрожит, даже трясётся. Но, чтоб ни на кого не думали, когда меня обнаружат, надо записать.
Я умираю. Стал выволакивать старое бревно, чтоб сжечь, перенапрягся и упал. В глазах потемнело, голову обволокло. И, сколько лежал, не знаю. Когда очнулся, может от холода, то всего меня колотила дрожь. Я икал и не мог встать. Костёр, на котором сжигал мусор, еле-еле дымился. Пламя могло и ко мне подобраться. Господь пожалел: не доходя меня, оно загасло.
Приполз, именно приполз, в свою избушку. Шарил какие-то лекарства – ничего нет. Попил оттаявшей воды из фляги. И сильно замутило. Стало рвать. Все жилы на шее вытягивало.
Темнеет быстро. Спички не нашёл. Но печь всё равно не истопить. Свечек бы побольше зажечь для нагрева воздуха, но спичек нет. Наверное, у костра выронил. Но уже туда не доползти, падаю. Ложусь. Тошнит. Рвать нечем. Лягу одетым. Одеяла ледяные. Сердце останавливается, так что могу и не успеть простудой поболеть.
Если не проснусь, простите меня, родные, простите.
Ночью. Замёрз окончательно. Но в темноте увидел, что огонёк в лампаде живой. Ноги не держат, хватался за спинку кровати, за стол. Еле вспомнил, где свечи. Страшно боялся загасить огонёк. Стал читать «Отче наш», губы сводит, зубы стучат. Господи, умираю! А всегда просил умереть после покаяния, исповеди, причастия, и вот… Господи, умираю. По грехам моим не осуди меня, дай свечку от лампады зажечь. И зажёг! И согрел ею, попеременно держа в руках, и левую ладонь, и правую. Потом вставил в подсвечник. Дальше легче. По стенке дошёл до кухонного стола, взял тарелок, в них натыкал свечей, которые зажигал от первой. В избушке посветлело, вскоре показалось, что потеплело. Воду пить боялся: несвежая. Даст Бог до утра дожить – закипячу.
«В руце Твои, Господи Боже мой, предаю дух мой…» Ложусь.
Нет, сразу встал. Что-то с головой. Умираю. Обносит слабостью. Стоять – ноги не держат, лежать – тошнит, голова падает в темное, с искорками, пространство. Сижу. К печке привалился – от неё могильный холод: зиму не топили.
Надо завещание написать. Какое завещание, не смеши людей. Ничего ты не нажил. А что есть, какое наследство, на то есть умная жена и хорошие дети.
Уснуть бы. Но лежать тяжело, мысли рвутся, всё время только дети и внуки в сознании. Какими-то наплывами.
Вот, оказывается, как умирают. А столько читал о смертях. Так читал же о монахах, молитвенниках. А наш брат, серый народ, умирает простенько. Вот остановится сердце, и всё. Господи, спаси и помилуй!
Попробую сидя дремать. Да, уже опять ночь. Что это? Или ещё первая не прошла, или новая наступила? Сколько же я тут? Сутки или больше? Какое-то бессознание.
Свечи освещают иконы. Очков нет. На память читаю молитвы, какие помню. Рвётся и память. Тысячи раз читал Покаянный канон, а сбиваюсь. Что, моя хвалёная память, захромала?
Очнулся. Утро. А утро ли? Вроде опять темнеет? Значит, опять вечер? Значит, день проспал? Или пять минут дремал? Нет, не пять: все свечи в тарелках догорели до корешка. Одна, толстая, мерцает. Какое-то тупое безразличие. Перечитал написанное. Смешно: завещание хотел писать. Небо, как свиток, совьётся, земля и всё, что на ней, сгорит, всякое железо сгорит, а ты туда же с клочком бумажки.
А ведь вправду вечер. Хорошо, свечей много. Но вряд ли эту холодину поборют. Термометр есть, но нет очков. Может, градусов восемь-десять.
Свечка эта толстая спасла, лампада-то погасла. Где масло, не помню. Место мне среди уродливых дев.
Свечи зажёг. Опять всё осветилось. Дров у печки нет, дрова на улице, да и все из-под снега. Не разгорятся. Печка страшно холодная, ещё и от неё леденит.
Деточки милые, ничего я не нажил, только на одно надеюсь: что будете хоть иногда вспоминать. Я вас очень любил, больше жизни любил. Но почему любил? Люблю, с любовью к вам умираю.
Сидел и силился вспомнить число и день недели. Какой год, неважно, да и число – тоже. А вот что сегодня? Вторник? Среда? Нельзя мне, если доживу, пропустить Лазареву субботу, Вербное воскресенье и начать жить в Страстной седмице. Но это всё за такими горами, на которые нет сил подняться.
Конечно, надорвался от тяжести. Дурак – он и умирает по-дурацки: нельзя же было после стольких операций хвататься за сырое бревно. Тебе говорили: не больше трёх килограммов. Мало ли что – батюшка благословил сжечь этот огромный холм отходов от строительства часовни, мусор, говорил же: «Ты потихоньку, сколько успеешь, столько и ладно». Мне же всегда надо больше всех.
Дрожь бьёт. Рука, видно по кривой строке, косым буквам, трясётся. Озяб. Ногам в ботинках холодно. Вчера промочил.
Так сколько же я здесь? Ночь, две? День, два? Три?
Какое-то тупое состояние. Надо оживать, молиться надо, ведь пропадаю. Есть надо. Но даже мысль о еде вызывает тошноту.
Господи, помоги затопить печку. Ну уж это стыдно просить: самому надо. Ну-ка, соберись, не будь нюней. А то скажут внукам: ваш дедушка и печку не сумел истопить, умер в холодной избе.
Видимо, сегодня среда всё-таки. Батюшка обещал приехать за мной утром рано в субботу.
Но чего считать дни, может, и часов не осталось. Как подпирает слабость, которая всё сильнее. Наша сила в нашей слабости? Так это о женщинах. А вот если бы тут была жена и ради неё надо было согреть избу, то как? Ведь истопил бы. Да, ради любимых нашёл бы силы. Ну и для себя найди! Ты же любимый у Господа.
Сидел, голова падала, с трудом поднимал. Увидел вдруг в красном углу, на полу, бутылку с лампадным маслом. Начнём оживание с лампады.
Зажёг! Вроде и руки не трясутся. Нет, опять вибрируют. В окне на улице день. Всё-таки день. По солнцу понимаю, что идёт к обеду. Да, солнышко. С ним повеселей.
Ищу телефон. Взмолился, нашёл. Но что толку, здесь прочно вне зоны связи. Лес же. В те приезды ходил далеко, к трассе, там соединяло. Сейчас и до часовни не дойти. На телефоне должны быть год, месяц, день, и час, и минуты. Но я же без очков. Шарил их, шарил, обессилел совсем, опять сидел и только дышал.
А как бы дойти до моей берёзы, поившей меня раньше? Тут на полочке даже сохранился маленький лоточек из нержавейки, который аккуратно вколачивал в ствол. И капало. Днём – побыстрее, к вечеру замирало. Да, вот сок земли, выкачанный корнями берёзы, меня бы оживил.
Мысль о берёзе, память вкуса берёзового сока меня как-то оживляют. А что? Вставай и иди к природе за лекарством.
Нет, слаб. Ноги не держат. Вот бы костылики.
А ведь и хорошо, что ни часов, ни радио, ни связи нет. Зачем? Светлеет окно – скоро утро, просветлело – день. И пошёл день, и идёт, и идёт, не останавливается. Но какие же долгие ночи!
Так хотелось справиться с этой некрасивой грудой мусора, убрать и у домика, и у часовни. Убирать и всё время поглядывать на разливающуюся реку, на этот океан воды. Я на берегу океана. Выброшен умирать.
Тяжело даже ручку в руках держать. Сейчас опять налетало забвение и какое-то бездумие. Выветривается голова, так, что ли?
Не могу понять, лучше мне становится или хуже? Есть совсем не хочу. Да и Великий пост. Но для сил нужно питание.
Пожевал кусочек ржаного хлеба. Сухо, слюны нет, не проглотить. Птицам отдам. Они всегда здесь меня ждут. Зимовали. Да и зимой сюда приезжал. На лыжах продирался.
Пульс слабый. То изредка частит, то еле-еле напрягается жилка, пульсирует. Да, прижало. Так мне и надо. Даже и сейчас собой занимаюсь, стыдно.
Что, братишечка, страшно помирать? Не страшись: всё равно же придётся.
Но, дети, дети мои милые, внуки, как же вы без меня? Дети мои, кровные и крёстные! Внуки! Вот ваш дедушка среди весеннего леса один-одинёшенек. Как хотел дожить до того, чтобы видеть вас взрослыми. Видимо, увижу, но уже из другого мира. Если ещё заслужу такой чести.
Смею просить: молитесь за меня, обо мне. Боюсь даже не смерти – ответа за грешную жизнь. Грешник «биен будет много». Особенно тот, кто знал, что надо будет ответить не только за дела, даже за каждое слово. Не только бранное, просто праздное. Которое можно было не произносить. А я-то сколько их рассорил! Сколько словесного мусора оставляю. Как бы его сгрести в кучу и сжечь?
Авторучкой пишу, она тоже, как и я, еле живая. Тоже перемёрзла. Над свечкой отогрел. А блокнот ещё совсем толстый, мне его никогда не исписать.
Солнышко рассиялось. Дай мне сил, светило, Богом созданное.
Нет, пока на улицу не осмелюсь. Сижу, валюсь на правый бок, на левый опасаюсь: сразу тяжелеет сердце.
Всё-таки потеплело от свечей в моём пристанище. Пальцами ног шевелю. Слушаю себя, везде пусто. Вот оно, великое изречение: в чём только душа держится. Цепляться же ей за что-то надо. Надо что-то съесть. И без воды нельзя. И пить воду из фляги боюсь.
О, и тут батюшка спасает! Оказывается, он привёз и поставил у стола пятилитровую бутыль с водой. Не давал мне тащить. А солнышко её высветило. Прямо на колени перед ней встал, накренил, налил в кружку. Боялся пить: затошнит – но всё хорошо. Попил глоточками. Ещё попил. Желудок благодарно отозвался. То есть я почувствовал, как вода оживляет меня.
Да, так. Оживляет. Ну, оживи и дальше, чтобы до берёзы дойти.
Полежу. Плохо, что вода холодная, внутри холодно. Лежи, в могиле ещё холоднее.
Полежал. Думал: как понять, что вот именно моя душа пришла в этот мир? Господи, за что мне такая милость и благодать? Я ли должен был видеть эти облака, этот весенний широкий разлив, эти сухие, умирающие травы и эти стрелки-иголочки новых зелёных травинок, я ли?
Господи, как всегда легко и привольно дышалось под небесами Твоими. И какая краткая оказалась жизнь, как мало успел, успел только понять: какая у нас коротенькая жизнь.
Мгновенная.
И в эти мгновения, составляя опись сотворённого Богом мира, в который Он поместил меня, думал, что надо в неё вставить и залетевшего в домик шмеля, который упрямо таранит воздух в избушке, сердится, значит, на меня. Откуда я вдруг взялся в его привычном мире? Или просит выпустить? Ничего, мы с ним подружимся. А как изобразить в словах полёт умирающего в полёте, догорающего сухого листочка? Вчера же удалось немного разжечь костёрик.
Да! Вот где сухие дрова, в костерке. Он загас, но всякие ветки в нём и щепки высохли.
Надо за ними. Не истоплю печь – окочурюсь. Уже и кашель налетает. Тяжёлый, сухой. Надрывный. Знаю, под утро будет ещё сильнее мучить.
И вот – первая победа. Сходил, еле-еле дотащился до груды мусора, около которой разжигал костёр, постоял, отдышался. Запах костра, такой родной с детства, тоже воскрешает. Река ещё и ещё размахнулась в размерах, подпирает мой высокий берег, а низкий – весь затоплен. Островки деревьев.
Притащил дровишек. Мало. Но начать топку – великое дело. Открыл отдушину, вьюшку. Скомкал сухую газету, поджёг свечкой. Горит, но дым идёт не в трубу – в избу. Это или снегом забило, или ворона гнездо в трубе свила. Плохо дело. Избушка полна дыма, ещё и от него кашляю и плачу. Беда, беда. Пришлось дверь открыть, чтоб дым вытягивало. Снова рвал газетки, уже и лучинки к ним добавлял, и сухие веточки. Нашёл даже за печкой свиток бересты, это материал зажигательный. Трещит, свивается. Дым ахает из дверцы, сквозит из плиты, прямо дымовая завеса, дышать нечем. Как ты, мой шмель, жив ли?
Выполз на крыльцо, дверь оставил открытой. Отдышался, пошагал опять за дровами. Надеялся, что протянет. От костра оглянулся на избу, на трубу и возликовал: тонюсенькая струйка дыма шла из неё. Победа!
Даже сил прибавилось. Себя урезонивал: набирай дров поменьше. Приковылял с дровишками в избу. В ней, конечно, холодно, но не дымно уже, уже «весёлым треском трещит затопленная печь». Вроде и сам повеселел. Пушкин пришёлся к месту.
Тяга хорошая. Плита вскоре тёплая, теперь горячая уже.
И ещё ходил за дровами, и ещё. И перестарался. Опять прижало, да так, что думал: всё. Стало даже безразлично дальнейшее. Умирать-то что в тёплой, что в холодной избе – разница невелика, не я тут решаю.
Воду пил из бутыли. Но что вода организму, да ещё холодная? Рвало опять. Крепко меня прополаскивает.
Сознание опять терял. Всё же ненадолго, так как дрова не успели прогореть. Поставил чайник, насовал в печку дровишек, бывших досок, реек, веток.
Стемнело. Ночи страшусь: дрожь опять вернулась. Печь всё ещё холодная.
Ещё победа: чайник согрелся, заговорил со мной трясущейся крышкой. Чай у меня хороший. Заварил в кружке. Вначале её ошпарил, прогрел тоже. Вылил из чайника кипяток в умывальник – пар идёт, тоже греет воздух. Снова налил чайник, снова на плиту поставил.
Пока он закипал, читал молитвы. И всё время стараюсь их читать. Прошу ангела-хранителя гнать от меня плохие мысли – только молитвы. Вот, милый ангел, где мы с тобой. Прости, тебе со мной всегда было несладко.
Воздух в избушке всё теплее. Но пол ледяной. Поднял повыше одеяла и подушки. Кашляю до стона.
Понимаю, что меня так за грехи треплет. Хоть бы только не умереть. А и умру. Недавно же, перед поездкой, причащался.
Слава Богу.
Постоянная судорога мыслей, ли́ца, мелькающие в сознании, вина перед всеми, как понять?
А так и понять, что вина перед всеми, то есть перед Богом.
Господи, Твоя воля, пока живу: лампада горит, иконы со мною, в окне часовня, под обрывом растущая мощь прибывающей воды.
Ещё и ещё натолкал в топку дров, уже кончились. Больше не пойду за ними: темно. Да и хватит, уже плита раскалилась. Пойдут после зимы трещины в стенках печи, неудобно перед батюшкой.
В избе всё теплее, а мне всё холоднее.
Молитва перед едой. Чай дымится в кружке, подсластил. Размочил хлебушек, потихоньку съел немного. Больше пока не буду, пусть приживётся.
Не буду и гадать, какой день, какое число на дворе. Батюшка сказал, что приедет в субботу утром. Может, она завтра и есть.
Хотя бы уснуть.
А как уснуть, когда, как последний салага, налопался крепкого чаю? Прямо как зэк чифирил. Но хотя бы ощутимо согрелось внутри. А кашель наваливается с новой силой. До помутнения сознания. Передышки редкие. Будто кто у меня внутри поднимает к горлу волны удушья, которые надо выкашлять. Нос заложило. Сморкаюсь сильно, бесполезно.
Так мне и надо. Может, от этих страданий грехи изглаживаются? Чего захотел! Какие это страдания, кожу с тебя, что ли, сдирают?
Вспомнил недавнее прошлое, то есть поход за дровами, в нём сочинилась такая фраза: «И упадает закатный луч на прошлогодние травы». И ещё: «Спасение России в пространстве и времени». Вот какой умный гриппозный писака. Кашляй, выкашливай дурь. Да, ещё же была фраза, когда глядел на лес: «И вдруг, в завершение дня, солнце озаряет окрестность, и особенно роскошную берёзу, что любоваться ею можно в любом состоянии». Конечно, очень искусственно. Но уж больно берёза была хороша. И любому состоянию помогала.
А интересно, почему «моя» берёза не рядом с домиком? Не знаю. Их тут много и рядом. Шёл с топориком по берегу, выбирал и всё их жалел. То есть берёзы. Выбрал. Аккуратно прорубил две канавки уголком книзу, в уголок вколотил лоточек, подставил ведёрко. Но вообще такое небольшое изъятие сока для дерева не страшно. Например, сосны, добывание из них ценнейшей живицы. Называется подсочка. Такие сосны иногда растут даже лучше тех, которые росли без изъятия живицы.
Перед дорогой к берёзе полежу.
Боже мой, какой полежу: потолок чёрный. Думал, что это закоптил дымом, нет, это ожили мошки. Потолок прямо весь шевелится. На окнах они же, стадами пасутся на стёклах. Что делать? Когда были с братом и они так же ожили от тепла, то я стоял внизу, подняв над собой таз с водой, а брат, вставши на стол, сметал мошек веником. Вода в тазу становилась чёрной. Сейчас я один. Куда денешься, хай живут. Меня уж точно переживут.
Опять что-то плоховато. Давно молитвы не читал.
Нет, пока день, надо идти за соком. Побреду. Святителю отче Николае, помоги!
Да, сходил. Тихохонько брёл, добрёл. Надрезы мои прошлогодние промокли, на них черным-черно муравьёв. Сок берёзовый, их можно понять. Освежил бороздки, заколотил лоточек, подставил банку. Приду часа через два. Нет, так нельзя, надо: «Если даст Бог дожить, приду через два часа».
Из опыта многолетней жизни знаю, что оживить может только молитва. Но так плохо мне ещё не бывало, и когда-то и молитва не оживит. Читай, брат, читай. За Богом молитва не пропадёт.
Снял даже куртку. Сверху, с проволоки, спустил одеяла и подушки, нагрелись. Но и они все в мушках. Кашель.
А вот на улице не кашлял. Даже голова отдохнула. А то такое надрывающее напряжение. Сейчас опять приступ был. Хотя бы отхаркивалось. Нечем.
Спустил ноги с кровати. Еле-еле душа в теле. Как это точно! Но чем хороша русская изба – она залёживаться не даст. Когда лежать? Надо печку топить, дров запасти. И к берёзе сходить.
Ну, крестись на красный угол, молись – и в путь на долгие минуты.
Молодец я, надо же когда-то и себя похвалить, и дров натаскал, и за соком сходил. Там присел у берёзы, прислушался. Всегда любил слушать, как тенькают капли сока в ведро, в кастрюлю. Слушаю – не слышу. А капли одна за другой. Что такое? Прислушался. Не слышу ничего. Знаю, что птицы поют, ветви на ветру шумят, – не слышу. Ударила простуда по ушам. Впечатление ошеломляющее. Возвращался в полной тишине. Ветка под ногой хрустнула, чувствую, а не слышу звука. Что же, и это за грехи.
Похвалил себя – и сразу наказан: упал прямо лицом. Запнулся за ровное место, полетел. Руки вытянул, а они не держат. Ткнулся в землю. Оцарапал нос. Ощутил кровь. Хорош подарок солнечного дня.
Умылся, лежу. Зеркала нет – на себя полюбоваться.
Собрался с силами, затопил. Опять дымит. Слёзы от дыма. Но хоть и от него, а хорошо, что слёзы. Прошу же в молитве дать мне «слёзы, память смертную и умиление». Память смертную можно и не просить, она рядом, а слёзы – смыть грехи – прошу.
Гасла опять лампадка. Видимо, масло загустело от морозов, фитиль плохо тянет. Зажёг лампаду. Снял со стены крест. Большой, латунный. Расстегнул рубашку, приложил к груди. Так целительно освежил грудь. Остудил и лоб крестом.
Чистил лук, разреза́л луковицы и вдыхал носом запах. Это очень надо, ибо явился «к числу других затей» насморк. Дышать ртом не могу, губы пересыхают, язык шершавеет.
Покрошил лук и мелко картошку, поставил на плиту рядом с чайником.
После таких подвигов опять лежу. И как-то спокойно думаю о земной кончине своей. Совсем не страшно умереть, хотя ночью очень испугался, когда куда-то проваливалась голова и сердце сдавливало. Всё равно я же не чахлик неверующий, не Вечный жид, всё равно умирать. Страшно одно: как мои родные, милые, любимые люди без меня тут останутся?
Но им же лучше, что здесь умру, на родине. Не надо будет меня везти в такую даль, сам приехал.
Здесь же услышал вятскую пословицу: «Отдо́хнем, когда подохнем». Но разве отдых – держать ответ за грехи?
Забулькал мой супик. Посолил. Немножко масла растительного добавил. А вдруг пятница?
Двигаюсь как-то заторможенно, но двигаюсь же.
Мошек на окне припекло, перебрались окончательно на потолок. «На кровати я лежу и гляжу на потолок: таракашка таракашку на шабашку поволок». И лезет же в голову такое. Или вспомнился совсем вроде ни к чему мальчик лет трёх, в Вятке, на улице. Говорит мне: «Папка на шабашке, а мама красавица».
О, у меня появился заступник и союзник. Это паук. Он питается мошками. Ему за ними бегать не надо, не надо паутину тянуть, сами к нему подползают. Он выедает пространство вокруг себя и перемещается. Только и делов. Ну и пузо у него, ну и аппетит!
Дышал над кастрюлей паром от картофеля и лука. Потом похлебал немного. Немножко греет изнутри.
Главное желание – больше всего хочется услышать голоса детей и внуков. Пусть ни о чём, только голоса. Милые мои! Уже из школы пришли, уже капризничают: то не хочу, другое не буду. Небось, ухватили конфет, суп не хотят. Мне бы ваши супы. Но и свой хорош. Жёнушка, родная, молюсь за всех вас, прошу и вас меня вспомнить. А потом и вспоминать.
Солнце сияет во всё небушко. А выйдешь – ветер, холодина, несёт с реки влажной сыростью.
Надо попытаться зажечь костёр для сжигания мусора. Зарядился старыми газетами, спички нашёл, они и не терялись, лежали в печурке, оделся. Надо бы переобуться. Обмывать будут, да увидят немытые ноги. Стыдно.
Поставил в большой кастрюле греть воду. Вода из фляги. Из бутыли, батюшкину, берегу.
Итак, ходил к костру. И разжёг его, и потихоньку из груды мусора доставал, что помельче, и подкладывал. Разгорелось. Вдруг пламя резко и резво пошло по сухой траве, еле-еле успел захлопать его лопатой. Потом еле отдышался. Потом долго окапывал костёр. Иначе может быть беда. Трава сухая, огонь по ней может уйти к лесу.
Но эти старания стоили полного бессилия, приступов кашля до изнеможения и тошноты. Всё-таки сплюнул, но слюна красная. И как-то спокойно подумал: кровь. Видно, надорвал бронхи. А может, что и посерьёзнее. Как знать. Как Бог даст. В домике ещё поел своего супа. Но чего-то не пошло.
Рассмотрел сумки, привезённые сюда. Да, оказывается, у меня всего полным-полно. Матушкины заботы. Лепёшки, блины, помидоры, мандарины. Морковь и свёкла. Тоже надо варить. Но уже, даст Бог, завтра. Да, надеюсь.
Лежал, вспомнил Акутагаву Рюноскэ, его «Зубчатые колёса». Читаешь и с ним начинаешь сходить с ума. Вспомнил и Мопассана «На водах». Читаешь и с ним умираешь. Талант или в самом деле это переживали? Литература или жизнь? У меня здесь записи начались с написания завещания, а потом пошёл репортаж об умирании. Скорее, желание оставить детям свидетельство о последних днях (да, именно так думал), о том, что именно о них и почти только о них думал днями и особенно ночами.
А, собственно, хоть сейчас умру, хоть погодя, всё равно последние дни.
Стараюсь даже не дремать, чтобы ночью уснуть.
Ещё кашель схватил у раковины, и снова отплюнул, и опять плевок красный. Ладно, что будет, что Бог даст. Если пора отчаливать, так пора. Всё в Его воле.
Надо мне, как монаху, которого мучили боли, говорить им: мучьте, мучьте, а вот я возьму и помру, кого вы будете мучить? У трупа радикулита не бывает.
Паук мой наелся и дремлет среди своей пищи. Потолок весь шевелится. Мушки перемещаются на окна. Будто живые тёмные занавески.
Надо за банкой к берёзе. Наберусь сил и побреду. По пути заверну к костру, подброшу, но помельче, чтобы до ночи прогорело. А уже скоро и вечер.
Да, ещё и этим наказан – глухой. Читал вслух Девяностый псалом, читал будто ватой обложенный. И глухоту приемлю как милость. Что ещё слышать из звуков мира? Болтовню, враньё политиков? Пошлость артистов? Жаль пения соловьёв, плеска волн, детского смеха, «Херувимской», но всё это в памяти слуха.
У берёзы новость: не один я сладко жить хочу – муравьи полезли пить сок в банке на дармовщинку и в нём утонули. Жалко трудяг. Выплескал их щепочкой на траву на пригорке. Отпил глоток, долго держал во рту, согревал. Проглотил. Очень всё внутри откликается. Это же с детства, это же навсегда.
Сок уже не каплет, утром, если доживу, надо принести какую-то ёмкость побольше. К приезду батюшки дары природы.
Вернулся в дом. Перед выходом на улицу в нём согрелся, но потом у костра с одной стороны жарко, с другой – холодит. А у берёзы совсем просквозило. Насморк, конечно. Да уж хотя бы сопли текли, сопливый был бы Робинзон, нет, просто носом не могу дышать. И опять кашель.
К ночи кружится голова.
«Господи, на всякий день, на всякий час дня наставь и поддержи меня».
Слабость повалила. Лежал, и вдруг пригрезилось, что меня пришли убивать. «Дайте помолиться. И за вас тоже буду молиться». И молился, и они встали рядом на колени. И мы обнялись. Но у них задание. Вот такой у меня юмор, такая хвантазия.
Интересно, что перед отъездом виделся с другом. Он болеет, но всё равно шутит: «А если б к утру умереть, то лучше было бы ещё». Как он там? И другого почему-то спросил по телефону: «Тебе хотелось умереть?» В ответ прозвучало: «Ещё бы! Непрерывно!» Так что я не одинок.
Нет, одинок. Умирают в одиночку. Даже в толпе. Даже при расстреле. И на Страшный суд идут не в коллективе.
Ой, надо же печку топить. Надо. Хорошо, уже дрова есть. Выгреб золу, высыпал в ведро. Подумал, надо было золу сохранить, под посаженные осенью дубочки высыпать. Смешно, этой золы от костра будут мешки.
Топится печь. А треска не слышу. А ведь в первый раз, когда затопил, слышал. Глохну, глохну. И принимаю, как будто так и надо. Течёт струйка из рукомойника в тишине. А ведь звонко барабанила по металлу раковины.
Ещё новость: ступня правая немеет. И пальцы – левой. Хорошее дело, как же ходить?
Перестрадал ночь. Задыхался. Боялся закрыть печку, угара боялся (в скобках: значит, жить хочу). Тепло высвистало в трубу. Встать и среди ночи опять затопить не смог. Да и не мечтал. Какое-то равнодушие, хриплое дыхание, кашель. Пил много слабого тёплого чая, вроде помогает.
Утром разбирал свою сумку. Привёз из Москвы лоскутную скатёрочку. Очень искусна. С блёстками в лоскутках. Утром расстелил. Положил на неё Евангелие и Псалтирь. Красиво. Сколько же ещё будут глаза мои отдыхать? Очки мои, за что покинули меня?
Топил печку, разогрел картофельно-луковый суп, дышал опять над ним. Вроде нос оживает. Чувствую, что и сам оживаю. Это молитвы, и сок берёзовый, и картофельная похлёбка.
Может, в Лазареву субботу можно и рыбу? Не помню. В Вербное-то воскресенье можно.
Такое счастье – солнце и сегодня.
Постоянная вина перед теми, кто дорог, кто близок.
Возвёл очи горе́. Ого! Мошки, как окаянное жидовство, обсевшее Русь, зачернили потолок.
Встал утром – брюки сползли. Подтянул, а дырок на ремне нет, кончились. «Брюки спали, брюки спали, потихоньку съехали. Все колхозники на тракторе сбирать поехали». Открыто такие частушки пели. И ещё будут нам демократы долдонить о запуганном русском народе. Сами пугались, дело ваше, а русские тут ни при чём. Да, крепко исхудал. Но это очень хорошо, гроб легче нести. Ладно, не искушай судьбу, не шути так. Отец раз так обеднел в командировке, что остались копейки только на короткую телеграмму: «Шлите денег поддержки штанов».
Долго занимался ремнём, делал две новые дырки. Это называется: живот подтянуть, а чего подтягивать – живота-то нет.
Солнце. Одевался потеплее, вышел, стоял на солнце, очень надеясь на его помощь. Оживил костёр, подвалил в него мусора. Дымило, потом занялось. Пламя костра и солнце.
И вот продолжаю репортаж об умирании – слепну. Не вижу, что пишу. Думаю, это оттого, что нагляделся на солнце и на пламя. Нахватался зайчиков, как говорят о тех, кто глядел на пламя электросварки. Я солнышка нахватался.
Глухой, слепой, больной, как хорошо! Чую, что температурю. А к костру надо. Надо у него дежурить, подкладывать сжигаемый мусор и следить, чтоб огонь не ускочил. Ещё поокапывал вокруг костра. Но опасность и в ветре: подхватит искры, унесёт на сухую траву. О, тогда так полыхнёт!
Хожу, как в мутной воде плаваю. Ноги переставляю. К берёзе пора. Собрать сока побольше, рабочим в церкви радость. И матушке с семейством.
Ходил и заменил одно ведро на другое. Первое принести просто не мог, закрыл его крышкой. Это я заранее сообразил о крышке. Да, а моих муравьишек нет на пригорке: значит, ожили. Обсохли на солнышке, разбежались. И на берёзе их бессчётно.
Капли сока падают на пустое дно ведра. Не слышу. Глухая тетеря. Куда денешься – старик.
Этот день – он же не повторится. Как и жизнь. И зачем в такой день покидать этот мир? Да только кто меня спросит, когда мой срок. Будь готов, и всё.
И вспомнил, что надо обязательно читать семнадцатую кафизму. А как? Лежит на столике у икон, сам же привёз, толстенная Псалтирь. Может, разберу буквы, шрифт крупный. Нет, в глазах сумерки.
Но вообще, думаю, хорошо не знать ни дня, ни числа. Солнце в зените, вот и всё. Что ещё? Идёт к западу. Успеть бы ещё что-то поделать.
В доме воевал с мошками. Сколько же вас! Даже на блокнот падают десантами, пачкают белую страницу.
Лежал. Было состояние какого-то равнодушия. Подумал: разве это плохо – ровная душа?
Повыше сделал подушки: лучше глядеть в окно. Глядел на небо. Облака белые, как стерильная вата. Да, это нормальное сравнение. Медицинская вата, которой собирают кровь с раны. И эти облака, которые кровянятся, будто впитывают на закате кровь с раненой земли. Насыщаются ею и уходят в ночь, отстирываться.
Думал: надо встать и эту мысль записать, пусть и простенькая. Ведь пропадёт, если не встать и не записать. И подняла меня профессия с постели, и усадила за стол. Вроде получше вижу. А вот уши – похлопал в ладоши – в отпуске.
Думаю, оттого оглох, что сильно сморкался, даже в висках отдавалось. Говорила же мама: не надо сильно сморкаться – оглохнешь. Маму надо слушаться.
Мошки дрейфуют с потолка на окно. На потолке уже три паука. Ленивые: ясно, что обожрались. Исаак Сирин даже блох жалел.
Честно записываю: если и есть в мире дурак, то он перед вами. Это я. Доказательство? Я вспомнил, что здесь есть канистра бензина. Отлил из неё в глубокую миску, принёс к костру и… выплеснул. Взрыв был такой, что меня сшибло с ног. И, как ни был глух, взрыв услышал.
Зеркала нет, а то бы увидел, в чём уверен: что мне брови и ресницы опалило. Конечно, костру стало повеселей от такой моей гуманитарной помощи. В доме умылся, проморгался, помазался освященным маслицем. Вижу! Видимо, от потрясения зрение восстанавливается.
Какой-то зверь заскулил за дверью. Услышал! Даже скребётся кто-то. Взял в руки топорик, открываю. Собачка.
– Милая, да как ты здесь? Заходи, заходи. У тебя поста нет, накормлю.
Рыженькая собачка, такая ласковая. Скулит, у ног трётся.
– Ах ты, красавица!
Всех зверушек у моих внуков вспомнил: всяких котов и кошек, Рыжиков и Мусек, и свинок. А ещё раньше – хомячков. Черепахи – Тортилла и Донателла. Кошки – Мышка и Муся. Собачки – Мартик, Тёмик.
– А тебя стану звать Ласка. Консервы у меня есть рыбные, как открыть?
А в руках-то топорик. Разворотил им крышку, поставил банку на пол. Собачка кинулась к ней.
– Ну, Ласка, мне бы твой аппетит. Не бойся, не выгоню, живи тут. Небось, ищут тебя, такую красивую?
Вот что такое живность, сразу стало мне повеселее. Если не убежит, то и ночевать будет спокойнее. А с другой стороны, чего бояться? Как говорит батюшка: «Чего нам бояться? Перекрестись и живи!»
Ласка ходила со мной. И к берёзе, и к костру, и к часовне. У часовни тоже прибирался, тоже стаскивал мусор к костру. Совсем оживаю.
Нет, убежала Ласка. Отбежала, остановилась, оглянулась, вильнула хвостом и умчалась. И ладно.
Опять, дурачок, наломался, опять хотелось побольше. Опять сердце прижало. Лежал долго. И вспоминал Иерусалим, Вифанию, особенно Лазареву пещеру. Такое мне выпало счастье, и много раз выпадало, что в святых местах бывал один-одинёшенек. И на Голгофе, и у Гроба Господня, и на Фаворе, в Хевроне, Вифлееме, Назарете, на Иордане – везде!
В пещере Лазаря глубоко, тихо. И вот вроде передо мной прошли две или три группы, тоже, конечно, мечтали что-то с собой унести, а этот камешек был ими не замечен, берёгся для меня. Он у меня в Москве. Его хорошо бы со мной в могилу мою положить. Но лучше пусть останется внукам.
Тяжело и прерывисто дышал и, конечно, вспомнил пословицу: перед смертью не надышишься. Её употребляли, например, в том смысле, что за пять минут до экзамена не успеешь к нему приготовиться. А тут всерьёз, экзамен экзаменов.
Напишу для исповеди грехи. Но если кто прочитает, кроме батюшки? Тут беда в том, что приходят, летят в меня, будто камни из прошлого, грехи. Они уже были мною исповеданы, а помнятся. Значит, плохо каялся. Нет, не буду писать. Их за меня бесы сто раз записали, да ещё и своего всего присочинили. Ангел мой, защити!
Долго соображал, ел ли что сегодня. Даже по записям пролистал блокнот. Нет, трапезы в нём не значится. Сок пил, хлебушко жевал. Даже сок грел в ковшике на плите, и втягивал в нос, и высмаркивался. Внушаю себе, что помогает. И пил весь день только сок. Чего-то ел.
Но, видимо, изнурение организма таково, так глубоко погрузился в болезни, что всплывание или далеко впереди, или… Ладно, не хнычь. Не ты первый дорогу туда открываешь, не ты и закроешь. Погружайся в горизонталку, на кровать, да вспоминай молитву: «Неужели мне одр сей гроб будет?»
Тень от креста легла на часовню, будто кто её выжег на брёвнах. Топлю, а холодно. Топлю, поглядел – тень ощутимо сдвинулась и увеличилась. Тень смещается, как стрелка на компасе. Не верится, что вся часовня утонет во тьме.
Ветер, такой ветер! Откроешь дверь – её прямо вырывает из рук. А с той стороны идёшь, открываешь – дверь тебя прямо отшвыривает. Костёр, слава Богу, загас. А то могло бы раздуть. Река вся посерела, прямо шкура первобытных зверей. Стоял у берёзы, вспомнил вдруг про клещей, их время настаёт. Бывало, впивались они в меня. Весёлого мало.
Тень от домика дотянулась до лиственниц. Указует на восток, откуда, даст Бог дожить, завтра придёт солнце. Интересно, кто ночью движет тенью? Ей же надо столько пройти, чтоб утром начать указывать на запад. Вопрос для внуков.
Радость! Открыл Псалтырь, а там, как раз на семнадцатой кафизме, как закладка, мои плосконькие очки. Это такое счастье! Читал и Псалтирь, и имена тех, кого тут поминал о здравии и об упокоении. Надо уже несколько имён из живых переместить в усопших.
Ну, с очками чего не жить?!
А ещё событие – луна! Весёленькая, чистенькая. Хорошо ей тут, в вятском небе. Оживаю, оживаю! Надеюсь, что оживаю.
Варил свой фирменный суп: картофель и луковицы. Уже и крупы сыпанул. Тут их много, круп: гречка, пшено, овсянка. Морковь вымыл и мелко покрошил. Как у меня всё изысканно. Ладно, не хвались, бойся.
Ведь старик я. Давно бы дотлевать, а живу. И ветер слышу в ветвях берёз.
Прикрыл печку. Осмелюсь пойти искать место, откуда есть связь.
Закат. Красиво.
Красиво, а связи нет. Да и батарея садится. Всего-навсего две малюсенькие палочки.
Да, думаю, не одно и не два сердца замирало при понимании невозможности описать Божий мир. Солнце розоватит лес, особенно берёзы. Вдаль смотрю: леса и леса. Река широченная, подтопила всё заречье.
Уже ходил не по сухой траве, а по зелёным травинкам. Жалко их, надо бы босиком ступать. Цветочки пошли! Голубенькие лепестки и жёлтенькие, как солнышки. Всегда приносил домой такую первую весеннюю радость. Хотел сорвать, нагнулся – голова закружилась.
Река прёт молча и неостановимо. Такая мощь откуда берётся? От таяния снега, из лесов. Не видят этого мои милые деточки.
Ну, не последний же для меня был этот закат?
Раннее-раннее, дорассветное, утро. Помираю. Еле живой. Зря вчера надеялся, что оживаю. Ночь эта могла быть последней. Как же меня после полуночи схватило! Опять же, сам дурак: чего ради вчера так много работал, перед кем хвалился? Тем более в такой ветер. У костра нагреешься, а ветер продувает.
Ночью было на меня нашествие. Оно началось изнутри. Это волны. Начиналась дрожь внутри, в груди, в сердце, потом всё больше, било всего, руки тряслись, икры ног схватывало, мышцы тянуло. Потом отпускало. Конечно, молился, конечно, говорил: «Так мне и надо», но страшился следующей волны телесной дрожи. Ещё так будет – вряд ли выживу. Не передать. Колотун. Колотило, сотрясало всего. Тело тряслось, сознание отключалось. Видимо, из сострадания, чтобы переждать боль. И страх был, конечно, был. Что ж ты хорохорился, что легко умирать?
Вроде как кто пытал меня. Издевательски, напуская приступы крупной дрожи. Будто током. Всё сильнее прибавляя трясучку. Даже не стеснялся, стонал. Кого стесняться, Господа? Он знает, что я мал, и бессилен, и беспомощен.
Трясло, как будто что из меня вытряхивало. Именно так. Душу вытряхивало. Цеплялась, бедная, за сердце, за разум. Хотя и сердце, и голова под давлением боли сдавались. Уже иногда казалось: всё. Силился заглянуть за темноту.
Молился. Просил и мысленно, и вслух родных и знакомых и за меня молиться и уверен, что молились. Тем более батюшка, который очень рано встаёт.
Дожил до утра. Еле сел на кровати. Печь тёплая. О ночи непременно хотел записать. Записал плохо, но главное – где бы сейчас был, если б не дожил до утра? Глядел бы со стороны, как входит в домик батюшка, ахает, едет за подмогой, как вытаскивают меня? Как при известии без чувств падает жена? Нет, надо жить.
Лазарь четверодневный выйдет из пещеры сегодня? Или завтра? Может, он уже вчера вышел? Просто батюшка не смог за мной приехать и решил вывезти меня уже к Пасхе?
Опять трясёт. Опять перележал приступ крупной дрожи.
Это всё мне за мои грехи. И слава Богу, что так карает, легче будет потом.
Дожил до утра, даже не верится.
Осмелился встать. Вроде живу. Вроде отпустило. Растирал, массажировал икроножные мышцы. Да какой из меня массажист, пальцы в кулак не сжимаются.
О, она уже тут! Конечно, Ласка. Не она бы, может, и не смог бы дойти до дверей. Но просится, скребётся, надо впустить.
– Что ж ты меня бросала? Была б тут ночью, как бы легче было.
Хвостом крутит, но видно, что не только из-за еды пришла, рада тому, что загривок треплю. Собрал чего-то, приспособил треснутую тарелку со следами воска от свечки. И воск выгрызла. Соскрёб и с остальных. И вообще пора мне в домике прибрать, не умирать же неряхой.
Ну ночка была! Ещё одну такую, может, не прожить. Господи, спаси и помилуй!
Спасает меня ангел мой хранитель. Почему вдруг захотелось выйти на крыльцо? Ангел позвал.
Журавли! С юга на север. Где же они, миленькие, отдохнут, где приземлятся? Как же любо-дорого смотреть на них. Летят именно к нам. «Не нужен им берег турецкий и Африка им не нужна», только Россия.
Милые, родные деточки, внуки, жена, братья, сёстры, крестники, батюшка! Мысли о вас спасали меня. Мог умереть и умер бы, если бы не чувствовал, что нужен ещё на земле. «Я умер бы, одна печаль – тебя оставить в этом мире жаль».
Больше ничего не буду записывать, главное запишу: всё в руках Божиих. Сами мы – «пар, приходящий на время и исчезающий».
Пора утренние молитвы читать. Господи, помоги мне родиться в жизнь вечную! Так страшусь, так боюсь, так надеюсь!
Исцеление
Рассказ
Ранней осенью в монастыре отпевали хорошего человека. Сладкий кадильный дым, умилительные слова молитв, согласное пение хора снимали скорбь, умиротворяли.
После отпевания архимандрит пригласил меня к себе и решительно сказал:
– Сколько я ещё могу отпевать? Конечно, Богу виднее, кого призывать, но Он не возбраняет нам заботиться о здоровье. А оно необходимо для трудов во славу Божию. Так? Вы согласны?
– Н-ну да. – Я не понял, к чему это сказано.
– Вот что, – решительно сказал архимандрит, – и не вздумайте отказываться от моего предложения.
– Какого?
– Вы плохо выглядите. Надо вам немедленно лечь на обследование. У нашего спонсора есть договорённость с одним очень хорошим лечебным центром. За неделю ничего не изменится. Вас полностью обследуют, дадут какие-то рекомендации. Может, где-то что-то надо подвинтить, что-то убавить, а что-то прибавить. Усилить защиту против инфаркта-инсульта. Как раз сегодня арендованная спонсором отельная палата освободилась. Завтра с утра будьте готовы.
– Но…
– Вы служили в армии?
– Так точно.
– А у нас дисциплина сильнее, чем в армии. Примите как послушание.
Вернулся домой – жена встречает, очень радостная.
– Это же очень хорошо – обследоваться. Врач звонил, говорит, чтоб ты взял халат, пижаму и шлёпанцы.
– Но у меня нет халата и пижамы, – обрадовался я. – Может, не примут?
– Есть же летние брюки лёгкие, и туфли летние есть. И приличные тапочки. И курточка лёгкая. Я уже приготовила. Вот ложечка для заварки, тебе Валя подарил, вот чай. Но врач сказала: там нет посещений. Почему?
– Почему вообще меня туда везут?
– Обследоваться! Тебе это надо. Ты плохо спишь.
– Да сейчас уже и медведи в берлоге плохо спят.
И вот жизнь моя назавтра с утра резко изменилась: в сопровождении монастырского врача я был доставлен в этот медицинский центр. Ехал с великой неохотой, надеялся, что что-то сорвётся и я вернусь. Ещё ограда устрашила: высокая, плотная, поверху обведённая колючей проволокой. Проволоку облагораживал оплетавший её дикий виноград.
– Тут был связанный с обороной режимный объект. В девяностые ликвидировали, потом ни то ни сё, потом вот медицина, – объясняла врачиха.
На проходной, оказывается, и пропуск был уже заказан. В приёмном отделении она меня сдала другому врачу, та велела мною заняться женщине в синем халате. А эта отобрала у меня верхнюю одежду и обувь, видимо, чтобы не сбежал, дала больничные тапочки и сопроводила в терапевтическое отделение. Просторный лифт, потом длиннющие чисто вымытые пустые коридоры с дверьми справа и слева. Очень похоже на тюрьму для блатных. Завела в кабинет, где у меня прослушали грудь и спину, измерили давление, и ещё одна сопровождающая привела наконец в отдельную палату. Стол, стул и какая-то замысловатая кровать на шарнирах. На стене провода, кнопки, табличка: время приёма пищи, процедуры, подъём, отбой, номера телефонов дежурной.
Я хотел полежать на кровати, я же лёг на обследование. Собирался осмыслить перемену в жизни, но даже и не присел: пришла медсестра и повела к заведующей. Попросила отключить телефон. А он у меня, оказывается, и вообще сегодня не включался. На ходу сообщила, что из центра выходить нельзя, только по заявлению, которое подпишет лечащий врач и которое заверит завотделением.
А вскоре сама завотделением обрадовала ещё и тем, что это обследование не на неделю, а минимум десять дней. Да и то, сказала, это очень быстро для полного обследования. Очень много анализов, и разовых, и повторных, всё это скоро не бывает. И из пальца, и из вены, и сок желудочный, и, конечно, моча. И капельница, и таблетки утром и вечером, и всякие рентгены. Кардиограммы, энцефалограммы. УЗИ. И процедуры. И глотание маленькой телекамеры, тоже всё будет.
– А выходить, значит, нельзя?
– По специальному разрешению. Но у вас будет такой плотный график, что выходить будет просто некогда.
Я затосковал: уж хватило бы в моей жизни заборов, ограждений и оград, но куда тут денешься, архимандриту надо подчиняться.
Подписал, не читая, несколько многостраничных бумаг, вернулся в палату. Подошёл к окну. И такой мне вид открылся! Он меня необычайно восхитил и даже примирил с ролью временного жителя в запертом пространстве. Центр этот на юго-востоке столицы. Из окна палаты был вид на Московскую кольцевую автодорогу, МКАД, за ней Николо-Угрешский монастырь. В нём я, конечно, бывал. Но была видна ещё и церковь села Беседы, вот что впечатлило. Я её многократно замечал, когда проносился по этой кольцевой трассе. И справа налево, и слева направо. Невольно возникло сравнение с наброшенными на город овальными обручами-хулахупами. И Москва их крутит, вращаясь одновременно и туда и сюда. Она такая – всех завертит. А может, и они – её.
Но вот почему-то в церковь Рождества Христова в Беседах не получалось заехать: или торопился, или ещё что. Всегда жалел: село Беседы значительно для русской истории. Не только оттого, что тут располагались великокняжеские угодья, но, главное, тут происходил военный совет-беседа перед Куликовской битвой.
И я возмечтал побывать в Беседах. Казалось, село близко. Дойти до кольцевой автострады, перейти её, тут и церковь. Может, тут километра два. Да, надо жене позвонить, обещал же. Но когда было звонить? И только начал тыкать в кнопки мобильника, как в палату безо всякого стука вошла женщина в белом, в затемнённых очках и – ни здравствуйте, ни прошу прощения – сразу:
– Отключите телефон, садитесь. Я ваш лечащий врач. Римма Оскаровна. Левую руку кверху ладонью на стол.
Стала измерять давление. Потом прослушивать.
– А от чего меня лечить? – спросил я. – От старости же не лечат. У меня оба дедушки у врачей не бывали, а жизнь-то какая им досталась, и ничего, жили. До старости дрова пилили-кололи. Хочу на них походить.
Моя разговорчивость ей не понравилась. Так я понял. Или она немножко недослышивала. Также я сообразил, что они у меня все равно чего-то найдут. А дальше по кругу: примутся одно лечить, другое тоже захочет лечиться, и уже из этого круга не выскочить. Тут только начни.
– Меня же только на обследование положили. Так-то я себя хорошо чувствую. Если что-то и есть, так возраст всё-таки. – Я всё-таки надеялся, что она даст мне от ворот поворот, то есть получится, что не сам отсюда убегу. А убежать мне захотелось.
– Зачем меня здесь держать? – рассуждал я, тоскливо глядя на белые стены. – Живу же. Не слепой, не глухой. А если что и есть, так это нормально. Надо же от чего-то умирать.
Врачиха, никак не реагируя на моё нытьё, присела к столу и стала заполнять бумажки, похожие на квитанции. Может, она меня и не слышала. Протянула несколько штук:
– Это уже на сегодня. На завтра – у дежурной медсестры. С утра не завтракать: анализ крови. – Снова померила давление.
– Нормальное? – спросил я. – Третий раз за два часа измеряете. Конечно, оно от переживаний прыгает.
– А какое для вас нормальное? – спросила она.
– Не знаю, – честно сказал я. – Да зачем и знать? Прекрасно себя ощущаю! Может, ничего мне и не нужно? Поеду обратно?
– Вы прибыли на обследование, – холодно сказала она, – а в этом обследовании многие десятки параметров кроме кровяного давления.
– Хорошо, спасибо. – Я взял бумажки.
– Давайте познакомимся, – сказала она.
– Так мы же уже знакомы. Вы – Римма Оскаровна.
– С вашим организмом. Снимите рубашку.
Выслушивала она мои внутренности внимательно. Эти с детства знакомые «дышите – не дышите».
– Повернитесь спиной. – Простучала лопатки и рёбра. – Рёбра ломали?
– Да. Восьмое и девятое слева. Потом – три справа. Но всё зажило.
Она присела к столу. И стала допрашивать и записывать, будто сама вела протокол:
– Рост?
– Всегда было метр восемьдесят, но сейчас, чувствую, уменьшаюсь.
– Вес? – Она, наверное, была врач-робот.
– Тоже по-разному. Но стараюсь за семьдесят три не заезжать.
– Пьёте?
– В тяжком прошлом. «Для пьянства вот какие поводы: крестины, свадьба, встречи, проводы, уха, защита, новый чин и… просто пьянство без причин».
Даже не моргнула.
– Бывает утомляемость?
– Ну да, я ж не трактор. Трактор и то…
– Изжога?
– Бывает. Но это у меня с армии. Там знаете чем изжогу лечил? Пеплом от сигареты. Я же, дураком был, ещё и курил.
– Головокружение при перемене положения тела?
– Так как не бывать? Бывает. Если согнуться да резко разогнуться. Но можно резко и не разгибаться.
– Дискомфорт в левой стороне груди?
– Поволнуюсь когда. С женой когда поссорюсь. Тут да, дискомфорт.
– Боли в шейном отделе позвоночника?
Я напряг затылок и признался:
– Это тоже есть. Но это, опять же, всё как у всех.
– За всех не надо отвечать. Снижение памяти?
– Да вроде пока помню. Где позавтракал, туда же обедать иду. – Я надеялся, что врач понимает шутки. – Конечно, уже не как молодой. Да и зачем много-то помнить? «Отче наш» выучил, и хватает.
– Горечь во рту? Отрыжка?
– Можно я рубашку надену? – спросил я.
– Можно не спрашивать. Икота?
– Бывает. Но скажу: «Икота, икота, иди на Федота, с Федота – на Якова, с Якова – на всякого» – то без всякого лекарства проходит.
Нет, врачиха – а ведь молодая ещё – была без эмоций.
– Перенесённые заболевания, операции? Какие, когда, под каким наркозом? Общим, местным? Контакт с инфекционными больными?
Я перестал шутить, отвечал на вопросы. Сообщил о перенесённых пяти операциях под общим наркозом.
– Но они были давно, хорошо прошли, всё прошло.
– Ложитесь. Расстегните ремень. Спустите брюки. – Она стала мять живот. – Тут чувствуете? Тут? Тут?
– Везде чувствую, – доложил я. – Но нигде не болит.
– Сядьте. Покажите язык. Высуньте побольше. Уберите. Повернитесь вправо. Так. Теперь влево. – Она и в уши поглядела, и глаза проверила, заставив меня поводить ими в разные стороны. – Это так, прикидочно. Подробнее уже специалисты. – Подержалась за пульс. Чего-то ещё пописала.
Нет, это была не женщина, это был робот. Её, наверное, делали в Японии по спецзаказу. Она встала:
– Какие будут просьбы?
– Будут. Убрать телевизор.
– Но можно же не смотреть.
– Нет, даже один его вид вызывает аллергию.
Она пожала плечами и вышла. Я включил телефон, сразу занывший. На экранчике прочёл: номер такой-то. Конечно, жена звонила. Семь раз. Вызвал её, даже оправдываться не стал: она с ума сходила, думала, что-то случилось, я же не отвечал. Не сумев до меня дозвониться, в интернете нашла телефоны центра, меня отыскали в списках отделения, даже сказали ей номер телефона палаты. Но и он не отвечает.
– Ты меня в могилу загонишь!
– Осмотр был. У меня минуты не было, чтоб позвонить.
– Именно для меня не было.
– Я не знал, что в палате есть телефон. А, вижу, над кроватью. А, он в розетку не включённый. Включаю. А какой у меня номер? А, тут написан.
– Осмотр был – и что?
– Я весь больной.
– Я это знала. Что-то серьёзное? Будут лечить?
– Будут в гроб загонять. Помнишь шутку про врачей? Консилиум: «Ну что, лечить будем или пусть живёт?» Или вторая: «Несмотря на все наши старания, больной выжил».
– Я спрашиваю: что-то серьёзное?
– Абсолютно здоров. Хоть в космос отправляй. Будешь женой космонавта. – В палату постучали. – Извини, пришли, позвоню. Да!
Пришёл мужчина в синем халате с белым воротником.
– Сказали телевизор у вас забрать. Они не шутят?
– Здесь разве шутить умеют? Да, спасибо, заберите.
– А что так?
– Ненавижу.
– Так-то так, – согласился он. – Но а вдруг «Барселона» играет?
– Так чего ж ты не за своих болеешь?
– Я за игру болею. А наши что? По минуте думают: пнуть по мячу или указаний подождать? В Лондоне в шестьдесят восьмом, по-моему, когда мы победили, им нечего было на приём к королеве надеть. За родину воевали, нынешние – за деньги, где ж тут победы будут? Ну, вообще-то на чемпионате поднатужились, да и то даже не четвертушка – восьмушка. Так и то какое ликование развели.
– Но победы нужны, как без них?
– Без них никак. Какая боль, какая боль, нет у России «десять – ноль».
Он ушёл, я стал звонить жене. Она ответила, но в дверь вновь постучали. Дежурная. Принесла ещё листочки, разложила на столе. И те, что заполнила врачиха, тоже разложила. Стала объяснять порядок посещения кабинетов.
– Этаж, номер, время, всё прописано. Сложено по порядку. Лучше приходить заранее. А то у нас есть любители лечиться. Ещё запомните номер стола. У вас пока общий. То есть не диета. Уже скоро обед. Или сюда принести?
– Это уже когда залечите до лежачего положения – тогда.
Но эта хотя бы улыбнулась.
На обеде, куда потихоньку сходились люди в пижамах, меня удивила тишина. Даже ложки-вилки не брякали. За компотом все ходили со своими кружками. У меня своей не было. Раздатчица удивилась, но тут же взяла белую больничную кружку, ополоснула, потом сказала: «Кипятком поливаю, эта будет ваша персонально, возьмите с собой в палату. У вас должен быть чайник».
– Нет, не видел.
Когда вернулся в палату, чайник, тоже белый, стоял на тумбочке. Подошёл к окну – в воздухе пропархивали мелкие жёлтые листочки. Смеркалось. Сейчас всё раньше будет наступать вечер, потом – и вовсе зима.
Стук в дверь. Да, надо же куда-то, в какой-то кабинет. Медсестра, уже другая, принесла капельницу. В перевёрнутой большой мензурке болталась какая-то жидкость.
– Ложитесь. Закатайте рукав левой руки. Поработайте кулачком, посжимайте и поразжимайте пальцы.
Прощупала пальцами с маникюром кожу на сгибе локтя, протёрла влажной ваткой, уколола в это место иглой, которая продолжалась прозрачной трубочкой, и по ней из мензурки начало поступать в мой организм, прямо в кровь – что? Лекарство? Какое, от чего?
– Когда раствор дойдёт вот досюда, нажмите эту кнопку, – сказала она и ушла.
Что ж это я, улёгся под капельницу без книги, без молитвенника? Да телефон же есть.
– Ну и новость! – воскликнула сразу жена.
– Какая?
– Ты не знаешь? У вас объявлен карантин. Посещения запрещены.
– Ну всё одно к одному: и меня не скоро выпустят. Я под капельницей лежу. Что вливают, не знаю. Пока жив.
Опять входят и опять без стука. Вроде рано капельницу убирать. Нет, не медсестра, моя врачиха. С бумагами. Села, их пересматривает. Я молчу. Капли каплют.
– В интернете нашла ваши данные трёхлетней давности. Были болезни за это время?
– Нет.
– Но отчего так резко снизились все параметры? Ещё подождём анализов.
Ушла. Ещё поговорил с женой.
– Я отсюда сбегу.
– Не вздумай. Перед отцом Тихоном как ты будешь выглядеть?
Сняли капельницу. Ходил по коридорам и кабинетам. В одном брали на анализ слюну, в другом был какой-то тест, в котором требовалось находить что-то похожее в разных картинках. Уровень детского сада. Может, меня за дурака принимали? В третьем несколько раз дышал в широкую трубку.
– Вы как гаишники, поймавшие водителя за превышение скорости и подозревающие алкоголь. – Сотрудницы кабинета ничего даже на это не сказали. Я понял: шутить здесь лучше не надо.
У меня наступило какое-то состояние прострации. То есть я как бы замер в своих чувствах, внушив себе, что надо просто пережить эти дни, это обследование. Ну да, тюрьма. Но ведь кормят, отдельная палата. Отдыхай. А всё равно что-то томило и угнетало. А чего, кажется, горевать: жизнь идёт, ещё что-то делаешь, никому не в тягость. А то, что ничего тебе в этой теперешней жизни не нравится, – так это стариковское брюзжание. Ты такой не один. Я в отца. Такой же. «До какого сраму дошли, – говорил, – а ещё до какого дойдём». Так что к старости я встал на накатанные рельсы. Но это же не эгоизм, не о себе думаю, о России. Да я в общем-то и в юности не был всем довольным, хотя и бунтарём особо не был. И диссидентство всегда было мне противно. Открытая борьба – это да. Понятие Родины, страны, державы, Отечества было для меня святым. А отсюда всё остальное. И когда, уже давным-давно, стал причащаться, жить стало и легче, и труднее. Легче – потому, что знал: Господь не оставит; труднее – потому, что резче увиделась вся насевшая на Россию бесовщина.
Ходил и ходил по коридорам и лестницам. И все эти передвижения около казённых стен напоминали о посещениях в больницах много болевших друзей. Да. А эта врачиха спрашивает: чем переболел? Друзей потерял – вот и вся причина. И сам, в свою очередь, заумирал. И это ощутимо почувствовал.
Моё пребывание в этом центре стало двуплановым: в одном состоянии меня обследовали, лечили, в другом – я непрерывно погружался в мысли о только что ушедших в жизнь вечную друзьях. Здесь всё помогало их вспоминать.
Вспомнил, как мы с поэтом Анатолием Гребневым – естественно, вятским – навещали в Перми, в обкомовской больнице, Виктора Астафьева. Его слабые лёгкие потребовали ремонта. Сидели у него в отдельной палате. Помогли переодеться в сухую рубашку. Смотреть на его шрамы, рубцы, напоминавшие ранения, было тяжело. На месте левой лопатки под кожей даже видно было, как бьётся сердце. Но он вовсю шутил, веселил нас фронтовыми историями. Речь сдабривал матерками. Пришла медсестра: «Вам укольчик». – «Куда?» Она покраснела: «В мышцу». «Ой, девушка, – сказал Виктор Петрович, разворачиваясь, – уж какая там мышца, давно задница». И тут же сказал ей частушку, но вполне приличную: «Медсестра меня спросила: “Может, вам воды подать?” – “Ничего не надо, дочка, я уж начал остывать”».
Когда мы уходили, в коридоре эта медсестра отчитывала важного дядю, видно, что начальника: «У вас такая пустяковая болячка, и вы так по-хамски себя ведёте, такие капризы. А вот в седьмой палате фронтовик, весь израненный, еле дышит и ещё шутит».
А вообще, думал я, вся моя московская жизнь – это, по сути, сплошные больницы. И свои, и родных, и близких. И эти похожие друг на друга коридоры, в которых санитарка орудует шваброй, примотав к ней мокрую мешковину, эти столы дежурных медсестёр за барьером с постоянно трещащими телефонами, процедурные кабинеты, запахи столовой, в которую бредут со своими кружками, ароматы мочи и хлорки – всё более-менее похоже. И эти больные, половина которых непременно недовольна порядками в больнице: врачам тут надо нести дорогие подарки, медсёстры делают уколы за деньги, а если не платишь, то делают уколы больно, на кухне воруют, а санитарка специально открывает окно, чтоб сделать сквозняк.
Всех больниц, где лежал, где делали операции, где кого-то навещал, ни за что подробно не вспомнить, но хотя бы помянуть добрым словом шестьдесят восьмую в Текстильщиках и родильный дом рядом, детскую Морозовскую и детскую Филатовскую, Медсантруд на Таганке, больницу МПС, военные госпитали в Сокольниках и Красногорске, ветеранскую в Кузьминках и Общедоступную Московскую на Спортивной, городскую в Филях, Пироговский центр, и, конечно, самый мрачный центр онкологии на Каширке, и детскую онкологию имени Димы Рогачёва, и больше всего Боткинскую, в которой и сам лёживал, и знакомый батюшка, и тёща и в которую на скорой увозили жену и мне позволили сидеть у неё в ногах…
А что говорить о последних десяти годах тяжело болевшего друга… Его помещали и в самые простые больницы, и в больницы элитарные, военные, профильные, в медицинские, и в обычные, и в научно-исследовательские институты. Везде лечили. Лечили, лечили и залечили. Вот его вроде вылечат, выпишут всегда очень дорогие лекарства и отпустят. Улетает на родину. А там… там попадает в больницу. И там лечат. Бывало, я и там навещал.
– Как понять? – рассуждал он. – Тут спрашивают: «Как вас лечили?» Откуда я знаю? Ну, анализы всякие брали, лекарства вот такие прописали. Говорят: «Вас неправильно лечили, выбросьте эти лекарства. Вам нужны другие. Мы вас вылечим». А я что, я слушаюсь.
Да, сказать – не поверят: иногда одна таблетка стоила ему несколько тысяч. И кто-то будет упрекать его за то, что он получал премии?
У него после двух страшных избиений, черепной травмы были провалы памяти, тяжелейшие головные боли. И постоянно точились слёзы. «Я без носового платка из дома не выхожу. Уже не для носа, для глаз», – шутил он. Шутил, а как всё переносил! А главное, что досаждало, убавляло здоровья, – его вытаскивали на многие официальные, чаще всего ему совсем не нужные, мероприятия. Он, по общему негласному признанию и друзей, и врагов, был лицом русской литературы, и ему приходилось тащить воз этого признания. Пойти в Центральный комитет, в Совет министров, во всякие другие органы, чтобы чего-то добиться, за кого-то попросить, – это всё лежало на нём. Председатель Союза писателей очень иногда был безжалостен: «Валентин, у нас завтра монголы, очень хотят тебя видеть. Ну удели полчасика». Какое там полчасика – день пропадал. Потом и китайцы, и сербы приезжают, и вся Европа, и несчастному Валентину опять приходится тащиться в Союз писателей, подолгу пить чай с очередной делегацией, говорить ни о чём, терять время и здоровье. А как его донимали с просьбами написать предисловие, дать интервью, а сколько напрашивалось в гости! И приходили, и подолгу сидели, будто готовя будущую фразу в воспоминаниях: «И когда я приходил к нему, в квартиру в Староконюшенном, то всегда говорил ему: “Валентин Григорьевич, берегите себя, вы нам очень нужны”». Сберегли.
Горбачёв просил его войти в Президентский совет. Вошёл. Не чего-то ради, а для добрых дел во славу России. То, что Оптину пустынь вернули Церкви, – прямая заслуга Распутина. Он говорил об Оптиной и с Горбачёвым, и с «архитектором перестройки» Яковлевым. До этого мы бывали в ней и видели «мерзость запустения, пророком предреченную». Вспоминали потом пьющего мужичка, которому дали квартиру в келье преподобного Амвросия Оптинского и который извлекал из этого много полезного себе. «Я же вижу, шапки снимают, крестятся, ну и я. Я тоже человек. Когда и денежку подбросят». Подбросили и мы. Очень благодарил и сказал, что это ему на вечер, а пока у него есть. И закуска есть. «Садитесь, парни. Сейчас стаканы вымою».
Сорок три года мы были дружны. Осенью 72-го я прилетел на совещание молодых писателей от издательства «Современник». Два месяца назад утонул Александр Вампилов, друг Распутина. Вечером сидели в обкомовской гостинице, теперь она «Русь», Валя неожиданно сказал: «А поехали на могилу Сани». Получилось, что поехали только мы вдвоём. Поймали частника. Был гололёд, машина на подъёме перед кладбищем буксовала. Вышли, толкали. Я даже снял свой полушубок и швырял под колесо. Сей полушубок мне добыли на родине, и он был упомянут в стихах Валерия Фокина: «Солнце вятское светит ласково. Может, кто и нетрезв, да не глуп. Непохож на дублёнку канадскую твой тяжёлый ямщицкий тулуп».
Сорок три года. Это же сотни чаепитий, то у него, то у меня. Как он описывал заварку чая, так и заваривал. Процедура, священнодействие. Ополаскивал чайник, разогревал. Заварку клал бережно, но не экономил. Смеялся, вспоминая анекдот: «Евреи, не жалейте заварки». Смешивал чаи. Добавлял привезённого чая «Курильского» или «Золотого корня». У него и жена Света такая же была, как он, чаёвница. «У нас может быть всё самое скромное, но не чай». Воду сильно не кипятил. Свежим кипятком заливал чай не до верха, накрывал шерстяной плетёной салфеткой, настаивал, потом отливал немного из чайника в чашку и выливал обратно. Это он называл «подженить». У нас в Вятке делали так же, только называлось «учередить». Возил с собой в непрерывные поездки «заварную» ложечку с крышечкой в дырках, кипятильник. От этой ложечки разом всё вспомнилось: дороги по Японии, Монголии, Италии, Финляндии, Болгарии. А поездка в Тунис по приглашению Ясира Арафата. А на схождение Благодатного огня в Иерусалим! И все эти выездные секретариаты, пленумы, съезды, Дни литературы в союзных республиках. Да на одно им начатое и проводимое событие каждого года, «Сияние России», сколько раз прилетал. А Карелия, Новгород, Минск, Киев, Белгород, Орёл… В Киеве долго шли от Киево-Печерской лавры через Аскольдову могилу, стояли потом у памятника великому князю Владимиру. Мурманск особенно запомнился: под Мурманском был ранен его отец. Почему-то ближе к полночи вышли. Площадь Пяти углов. Странно и непривычно: по времени глухая ночь, а стоит белый день, солнце ходит, как наливное яблочко по блюдечку, на улицах никого, сонное царство.
Днём встреча на атомоходе «Ленин». Вначале экскурсия по этой громадине. «Не могу понять, чудо это или чудовище», – сказал он тогда. Ещё в Североморске встреча была. И в Апатитах. Или в Кировске? Нет, в Кандалакше. А его приезд в родную мою Вятку, в Великорецкое. Но всё бегом и бегом. Всё вспомнишь, да не всё перескажешь.
А как забыть финскую баню-сауну? Это 76-й год. Тогда эти сауны были где-то за заборами (песня была: «А за городом заборы, за заборами вожди…»), простые смертные о них только читали. Вот нас – мы приехали на совещание писателей Финляндии – повели в сауну. Мы побаивались: дело небывалое, вдруг опозоримся? Зашли с ними в парную. Они сидят, молчат. И мы сидим, молчим. Иногда поддают. Но вроде терпимо. Стали они почему-то по одному выходить. Выходят, выходят, и вот мы остались одни. Сидим, сидим, греемся. «Слушай, вроде неудобно, они ушли, давай и мы выйдем». Выходим, они в ладоши хлопают. Оказывается, мы их всех победили.
И опять проблески воспоминаний. В Монголии такое есть место – нетающий ледник. Жара плюс сорок, а под ногами лёд. Ходим по нему босиком.
В Италии, в Ватикане, в 1988-м на приёме у папы римского, кардиналы в лиловом висят над ухом и интимно сообщают, что мы можем говорить с папой, но недолго, минуты по две. Валя говорит: «Бери мои минуты и говори с ним четыре».
А Божественная литургия, причащение в Успенском соборе Кремля. Ежегодное соборование в Великий пост у нас дома. Это же каждый раз не менее пяти часов. Но до того благолепно проходило. А заседания Комитета общественного спасения у отца Александра Шаргунова. Движение за прославление императора Николая и царской семьи.
А длительные поездки по русскому Северу со знаменитым народным академиком Фатеем Шипуновым. Ночлег у костра с видом на Ферапонтов монастырь. Утром ехали в Нилову пу́стынь, к Нилу Сорскому. Грязища, буксовали. В пустыни мужская психиатрическая больница. В центре огромная клумба, на которой, как на лужайке, лежат душевнобольные. Над ними высится статуя основоположника, конечно, с ленинским жестом. Такие памятники повсеместно называли «Всю жизнь с протянутой рукой». Также психиатрическая больница, но уже женская была и в бывшем Задонском монастыре. И туда Фатей нас привозил. Тяжелейшие впечатления. Фатей умел воспитывать русских писателей.
Дни славянкой письменности и культуры в Вологде, Новгороде, Москве, Минске… В Минске пришли на встречу в госуниверситет. А в огромном зале сидело человек двадцать. После говорю Ивану Чигринову: «Ну как же так, Ваня? Всё-таки Распутин приехал». Он хладнокровно: «Как вы к нам, так и мы к вам». Всё им Москва была виновата. Особенно в Киеве уже тогда чувствовалось отчуждение. Да и Кавказ. Писатели союзных республик громко сетовали на уничтожение их национальных культур, но детей отдавали в английские спецшколы.
Много ездили, много раз – на Алтай, Шукшинские чтения. Подмосковные научные центры: Черноголовка, Зеленоград, Обнинск – разве всё перечислить? Но было же. Ну не зря же было.
Вообще Валя был человеком высочайшего порядка во всём. Чистота была его спутницей. Чисто в избушке, где жил, чисто брал ягоды, аккуратно на столе, за которым работал, в гостинице, в которой жил, номер оставлял таким, как будто в нём никто и не жил. Что говорить о его «бриллиантовом» почерке. Строчки как струнки. Бриллиантовым я назвал почерк сознательно. Есть мелкий шрифт, называется петит, есть ещё мельче, называется нонпарель, а есть совсем ювелирный, именуемый бриллиант. Одна его рукописная страница занимала потом чуть ли не десять машинописных. Отвечая на вопрос о том, как он работает, Валя улыбнулся: «Посижу-посижу, напишу строчку, посижу-посижу, зачеркну». Это не Астафьева взрывные скорости.
К знакам внимания Валя был безразличен. Они его даже тяготили. Вот вспомнил к месту, это мне рассказали в отделе рукописей Российской государственной библиотеки (бывшей «Ленинки»). Немного мест в Москве, где он любил бывать, но этот отдел посещал всегда с радостью. Там доводилось увидеть, иногда подержать в руках такие тексты таких великих мужей Отечества! Однажды с нами был священник, отец Александр, и Виктор Фёдорович, заведующий, вынес Остромирово Евангелие, и этим Евангелием батюшка нас всех, ещё сотрудниц отдела Марину Николаевну и Елену Игоревну, благословил. Так вот, Валя принёс, это уже было в последнее его земное время, принёс в отдел целый пакет орденов, и медалей, и знаков отличия всяких и просил их взять. Но такого никогда не было в практике отдела. «Нет-нет, Валентин Григорьевич, взять не можем». Он грустно улыбнулся, а потом сказал, что, возвращаясь, выкинул этот тяжёлый пакет в мусорный ящик. Будто освобождался от земных нагрузок.
По характеру Валя не был оптимистом, даже, бывало, грустно шутил: «А если б к утру умереть, то лучше было бы ещё» – и вместе с тем был необыкновенно решительным. Мы с ним состояли членами Комитета по Государственным и Ленинским премиям. А была выдвинута на премию постановка Театра имени Ленинского комсомола по Шолом-Алейхему. И нам её надо было смотреть. А там по ходу изображался еврейский погром. Зрелище ещё то. Страшные пьяные хари русских охотнорядцев, несчастные избиваемые евреи. Валя поглядел на меня и резко встал. Я понял, тоже встал, и мы – ясно, что не под аплодисменты, – вышли. Оделись, выходим из служебного входа. Навстречу двое мужчин. Посторонились. Пошли дальше. Валя засмеялся: «Надо было их предупредить: там погром». В Комитете по премиям, конечно, наш поступок восприняли неоднозначно, особенно секретарь его, Зоя Богуславская. В этом Комитете она всем и всеми командовала.
Беды России, нападения на неё он воспринимал обострённо, болезненно. Особо не обольщался тем, что кто-то в мире любит нас, читал: «Хорошо, что никого, хорошо, что ничего… – И заканчивал: – И никто нам не поможет, и не надо помогать». Когда, вроде как в утешение побеждённому коренному населению, демократы вывесили триколор над Верховным Советом, Валя, выступая на Всемирном русском соборе, сказал: «Россию можно похоронить и под таким знаменем, и под музыку Глинки. – И вспомнил эмигрантское: – Над нами трёхцветным позором полощется нищенский флаг». Да, флаг этот доселе, не знаю, как кого, а меня не вдохновляет. Его ещё и на лице стали рисовать. Как татуировку. А она знак или дикарей, или уголовников.
И когда в 93-м расстреливали здание Верховного Совета и передавали этот расстрел в прямом эфире, перемежая рекламой наш несмываемый позор, когда русские стреляли в русских, Валя говорил, что ему уже никогда не очнуться от этого ужаса: «Когда всё кончилось, я отошёл от телевизора весь обугленный».
Потом они вместе с журналистом Виктором Кожемяко выпустили книгу «Эти двадцать убийственных лет» о 90-х годах, об уничтожении России.
И за его пронзительные повести и рассказы, особенно за образы русских женщин, за выступления в защиту достоинства русского человека его любили. Вот пример: улетали с Ольхона и уже стояли у самолёта. Валя даже как-то виновато сказал: «Да, вот омулем на распялке не успели угостить». Это слышал кто-то из экипажа. И задержали рейс. Запылал костёр, явилось ведро свежего омуля, его стали особым образом разделывать, укреплять на рогульках перед огнём. Прошло всего двадцать, самое большее двадцать пять минут, и мы пробовали незабвенный благоухающий продукт.
Сколько времени, здоровья, нервов убавляла борьба за сохранение памятников истории и культуры, борьба за издание исторического и философского наследия. Например, за «Историю государства Российского» Карамзина. Наивные люди, мы думали: вот издадим Карамзина – и Россия спасена. Писали в инстанции, просили. Отвечали: нет бумаги. Тогда, в сентябре 91-го, пришли в Комитет по печати Сергей Залыгин, Виктор Астафьев, Владимир Личутин, Гариф Ахунов, Анатолий Ким, Валентин Распутин, Василий Белов, Виктор Потанин, аз многогрешный и сказали: мы отказываемся от изданий своих книг и отдаём бумагу на Карамзина. И подействовало. А борьба с поворотом северных рек на юг. Первым начал писать о повороте рек именно Василий Белов. Статью «Спасут ли Воже и Лача Каспийское море?». Потом – Михаил Лемешев, учёные. А сколько сил ушло на «Байкальское движение», тут полностью заслуга Распутина. Бросали все свои дела и вставали грудью за Россию. Эти многолюдные вечера, поездки, хождение по кабинетам. Меня встретила Вика Токарева, мы с ней были в 68–69-м годах сценаристами Центрального телевидения, и спросила: «Слушай, зачем вам это надо? Вы же писатели». Да, писатели, но писатели русские.
Именно благодаря во многом Распутину и Белову роль писателя в России была самой авторитетной. Даже так бывало: что-то случается в стране, тут же вопрос – а куда смотрят писатели? Во всём верили нам. Например, выступаем на встрече, говорим, поэты стихи читают. Встаёт в первом ряду старик: «Это вы всё хорошо отобразили. Но скажите, как бороться с колорадским жуком?»
В палате я устроил иконостасик в углу, обращённом как раз одновременно и на восток, и на церковь в Беседах. Палату стал называть своей больничной кельей. И уже привык к ней, и бежал в неё отдохнуть от процедур и очередей перед кабинетами. И постоянно утыкался в стекло с видом на церковь в Беседах. И всё больше хотелось побывать в ней. Вроде недалеко. Конечно, пересечь окружную дорогу, по которой по шестирядному шоссе в одну строну и шестирядному – в другую несутся машины, сотни машин за минуту, немыслимо. Но бывают же интервалы. Я даже вычислял: вот вроде напор схлынул, тут бы я успел до середины добежать, отдохнул бы и дождался бы и на той стороне паузы в движении. Рискованно, конечно. Но, если что, можно пройти вправо или влево, должны же быть переходы. Из окна не видно.
Но как пойти, когда каждый день расписан чуть ли не по минутам, ты всё время на виду, тебя опекают врачи, медсёстры и одна санитарка, как?
И врачиха моя заглядывала, и здоровьем интересовалась, и даже удивлялась вроде, что чувствую себя хорошо. Как тут уйдёшь? А ведь туда и сюда надо самое малое часа три.
И всё-таки такой день представился. Мне сказали, что послезавтра на меня наденут прибор – холтер, который нельзя снимать целые сутки. С ним спать, с ним ходить, с ним есть и пить. И давать организму нагрузки и непременно их записывать, дали специальный лист, в котором велели отмечать, что с тобой было каждый час: ходил ли, лежал ли, спал ли или питался. Все процедуры на эти сутки отменялись, как и ежедневная капельница. То есть я был только под своим контролем.
Я понял: другого случая не будет.
А назавтра были предварительные выводы обследований. Римма Оскаровна много не говорила, но я и сам понимал, что у меня нашли или массу болезней, или их начатки, букет, как говорится. Всяких: от головы до сердца и лёгких, от сердца до желудка и ниже. Порции таблеток, приносимые с вечера и утром и выкладываемые на тумбочку, увеличивались количественно, а уж было ли количество качественным, знать мне было не дано. Но в этой больничной атмосфере казалось мне, что мне всё хуже.
На приёме увидел много нового внутри себя. Сердце, непонятно как снятое, трепетно и судорожно трепыхалось на экране больничного монитора. Уменьшалось, увеличивалось, играло, прямо как солнце после пасхальной службы. Но то солнце, на миллионы лет рассчитанное, – а тут маленькое сердечко. Казалось, вот-вот выдохнется.
– А ещё хотите посмотреть изнутри свой желудок? – спросила Римма Оскаровна.
И показала его на экране. Для этого я и глотал крохотную телекамеру. Противно было, конечно, но зато впервые увидел красоту своих мраморно блестящих стенок желудка. Представить, что им приходится соприкасаться со всякой животной и растительной, белковой и углеводной, твёрдой и жидкой, пережёванной и наспех проглоченной пищей, было почти невозможно. И вот эту красоту заливать мерзостью мутного пива, обжигать водкой и коньяком, сваливать сюда, как в помойку, и заставлять перерабатывать недожаренное мясо, переваренную рыбу, всякие помидоры и картошку – бедный ты, мой милый желудок!
Да и что желудок?! Разве почкам легче? Какое только пойло не льём в глотку организма, а почки всё это пропускают. А бедняжка мочевой пузырь! Что говорить. Дивно ли, что они устают и просятся на покой. Одному только сердцу как достаётся. А могучая наша кроветворная печень. Да что говорить?! Ходим мы, созданные Господом на диво, живые храмы Духа Божия, и над собой издеваемся. Себя не ценим, не бережём. А ведь обязаны.
За день я всё продумал. Спросил разрешения на прогулку. По территории – разрешили. Я ещё из-за того попросился, чтобы вернуть из камеры хранения куртку и ботинки. Сдал взамен больничные тапочки. Обулся, вышел и пошёл слева направо, по периметру вокруг зданий. Глухо: заборы и проволока, оплетённая зеленью. Порядок лагерный: клумбы, аллеи, стенды о здоровой жизни, деревья и кустарники. Всё подстриженное, всё по линейке.
Я взаперти. Да ещё и этот карантин. Но дай, думаю, завершу круг почёта. И не зря: в направлении как раз к окружной кольцевой, которая ощутимо напоминала о себе гудением, обнаружил, что за деревьями в одном месте бетонный забор заменён временным – деревянными щитами. Видимо, ремонт канализации. Экскаватор, маленькая бетономешалка, вагончик. Забор тоже высоковатый, но хотя бы без проволоки.
И от корпуса далековато. И никого: ни охраны, ни рабочих. А-а-а, сегодня же суббота. Так ведь и завтра воскресенье. Они же специально навешивают на меня аппарат на выходные.
Вот тут-то мне и путь-дорога.
Вернулся в корпус. Внизу, в буфете, попил чай с булочкой. Конечно, куртку не сдал. Скрутил её в свёрток, взял под мышку и пошагал по лестнице. В лифте решил не ехать: там лифтёрша, заметит запрещённый груз. Ботинки тоже были запрещены, но я как-то прошмыгнул мимо санитарки. А тапочки больничные остались в камере хранения – пусть думают, что меня выписали, искать не будут. У меня в палате свои, домашние: жена позаботилась – в них уютнее.
Вечерние, а после ночи (спал неважно) и утренние молитвы читал, обращаясь к церкви. Пошёл на процедуру навешивания аппарата. Боялся, будут долго возиться. Нет, молоденькая медсестра быстро-быстро напритыкивала на разные места моей верхней части тела присоски с проводами, привесила на ремень коробочку, к которой эти провода сбегались, вручила листок, разлинованный на двадцать четыре деления. Это по часам наступающих суток. Надо было записывать, что делал, чем занимался каждый час.
Завтракать не стал. Может, надеялся на причастие? Хлеба всё-таки взял, положил в пакет. В палате выложил на видное место листок, в котором отмечал свои передвижения, написал: «9:00 до 12:00 – прогулка по территории». Про себя подумал: «Врать нехорошо», но тут же придумал оправдание: «Нет, не вру, у меня не самовольная отлучка, у меня прогулка конкретно по территории Москвы и Подмосковья».
Позвонил жене, попросил молиться за меня.
– Я о тебе и так всё время молюсь.
– Сегодня особенно надо. – Это у меня непроизвольно вырвалось.
– Пожалуйста, не пугай. Какое-то новое обследование?
– Нет-нет, всё нормально.
– А почему особенно? Что-то скрываешь?
Как мог успокоил её. Телефон намеренно оставил в палате. Вышел из корпуса, перекрестился и пошагал. У щитов ограждения выбрал заранее намеченное место, закрытое высоким кустарником, проверил навешенную на меня сбрую, ещё поозирался по сторонам: вроде всё спокойно – и полез. Но с ходу не получилось. Не оттого, что не было сил, а от мелькнувшего страха, что зацеплюсь за что-то проводами, сдёрну датчики-присоски и нарушу работу аппарата. Оглянулся, увидел ящик, подтащил, убедился в его устойчивости и с его помощью поднялся на забор. Перевесился на другую сторону, ухватился руками за край щита, спустил ноги и отцепился. Удачно: не упал, и ни одна присоска не отлипла. Слава Богу.
Надо было пройти мокрую низину, плотно заросшую ивняком, понизу – осокой. Ботинки сразу промокли. Впереди был ручей. Разглядел самодельную плотину из срубленных ветвей, перешёл по ней водную преграду. Значит, кто-то же ходил тут.
И ещё были преграды. Непонятно для чего раскопки, залитые водой, спиленные и неубранные деревья. И это в черте Москвы. Наверное, строить что-то собираются. А это место с моего этажа выглядело как парк: пышная, красивая зелень. Уже с жёлтыми осенними сединками. Наконец выкарабкался наверх и передохнул. Аппарату моему было что записать: эти нагрузки и тревоги.
И вот я перед Московской кольцевой автодорогой. Слева, но очень далеко, виднелся переход. Буду ждать, может, движение на немножко прервётся. Стоял пять минут, стоял десять. Какие там интервалы, о чём я наивно мечтал? Несутся стада ревущих механических, изрыгающих выхлопные газы животных, сигналят, злятся друг на друга. Им в одно удовольствие смести меня с лица земли.
Куда денешься, двинусь к переходу. Хороша прогулочка на свежем воздухе, надышался досыта. Помогало то, что радовался близости церкви, которая иногда мелькала в просветах среди зарослей придорожных деревьев.
На середине перехода на эстакаде постоял. Подо мною неслась многотысячная колёсная жизнь: фуры, трейлеры, другие всякие большегрузы и бесчисленные легковые автомашины марок всех стран-производителей. Усмехнулся, вспомнив, как внук, уже очень современный ребёнок, всё допрашивал меня: «А это какая машина? А эта?» И раза два-три поймал меня на незнании, не смог отличить «хонду» от «хёндая» и один «опель» от другого. Тогда я, чтобы внук не очень-то задирал нос, выучил по значкам все марки и, торжественно допрашивая его, уловил на незнании «лексуса». Вернул свой авторитет и имел право сказать: «Ты б с таким усердием книжки читал».
А его папочка, мой сын, тоже Володя (у нас в семье все – Володи), когда был ещё меньше, меня один раз чуть до сердечного приступа не довёл. С семейством Беловых были в Пицунде. Сынок не на машине, на мне ездил. На пляже я посадил его на плечи и пошагал вдоль берега. Анечка Белова увидела такое дело и тоже запросилась на плечи отца. И вот идём рядом, мой сыночек прыгает и прикрикивает в такт: «А мой-то папа выше! А мой-то папа выше!» У меня ноги подкосились: быть выше – и кого? Белова? Написавшего «Привычное дело», «Деревню Бердяйку», «Любу-Любушку», «Вологодские бухтины», «Всё впереди», «Кануны»? Да это, это… что говорить! Смешно сейчас читать мнения, что деревенская литература умерла. Это Иван Африканыч умер? Или Барахвостов? Или старухи Распутина? Или бабушка Катерина Астафьева? Это навсегда. Не только в истории литературы – в истории самой России.
Эта дочка Анечка вертела папочкой как хотела, любил он её сильно и всё прощал. Возвращались из Пицунды, и они у нас, в Москве, ночевали. Улетали в Вологду назавтра из Быкова. Вызвали такси, поехали. И вдруг Анечка в голос зарыдала: у куклы с ноги где-то соскочила туфелька. И что? Василий Иванович велит таксисту поворачивать. «Вася, опоздаем!» – Ольга Сергеевна нервничает. Но Василий Иванович не может огорчить Анну Васильевну. Возвращаемся и, четыре взрослых человека, ползаем по квартире, ищем туфельку. И находим! И вновь едем. И едем, и успеваем. Оказывается, вылет задержали на сорок минут.
Не забыть, как пригласил нас Александр Ведерников, великий певец, – конечно, вятский – на оперу «Жизнь за царя», где исполнял главную арию. Встретил у служебного входа, провёл и посадил в ложу. Велел после спектакля обязательно не уходить, ждать его. Мы сидим и говорим, что надо же с чем-то пойти к нему. Бежать куда-то поздно. В перерыве пошли в буфет, купили по заоблачной цене три бутылки шампанского. Одну сразу уничтожили, две – с собой. Что говорить о величии этой оперы? Всё в ней великое: и ария «Чуют правду», и «Славься» Глинки. Отхлопали вместе с залом (весь зал встал) ладоши, ждём. Александр Филиппович, ещё в гриме, приходит, обнимает: «Ко мне!» В его гримёрной достаём приношение, он смеётся, как только он мог, басом, густо, заливисто: «Да вы что? Да как это так: Иван Сусанин и шампанское?» И всё, как в сказке, появляется: и серьёзные напитки, и остальное к ним.
Уж заодно вспомнил и о шапке скульптора Клыкова. С ним меня познакомил как раз Василий Иванович. Он уезжал домой и просил проводить его. «Много книг нахватал. Ещё Слава Клыков придёт». А я уже знал работы Клыкова, особенно поразившую скульптуру «Старик и карлик». Познакомились. А тогда жили мы с Надей тяжеловато, не печатали меня. И у меня была очень дешёвая шапка, какая-то синтетика. И Слава всё на неё поглядывал. Уже пора собираться на вокзал. Слава встаёт из-за стола, берёт мою шапку, подходит к окну – а мы на одиннадцатом этаже гостиницы «Россия» – и выбрасывает мою шапку со словами: «Русский писатель не должен носить таких шапок!» Тут же берёт свою роскошную шапку, даже не знаю, какой это мех, видно, что очень дорогая, нахлобучивает её на меня: «Носи. Дарю!» Я встаю, снимаю её, подхожу к окну и тоже выбрасываю со словами: «Русский писатель чужих шапок не носит». А декабрь, а мороз. Василий Иванович кричит: «Ну дураки, ну дураки!» А мы вначале хотели на метро ехать, а тут как? Василий Иванович побежал к дежурной, вызвал такси. На вокзале бегом-бегом загрузили его, попрощались, бегом на стоянку. К нему, на Ордынку, все хотят ехать; ко мне, в Печатники, – никто. «Поехали ко мне, – решает Слава. – Найдём там у меня шапки». Вскоре и ему, и мне пришли посылочки из Вологды: Василий Иванович наградил двух дураков хорошими шапками.
В Харовске установлен памятник Василию Ивановичу. И на нём очень честные слова от имени жителей района, в котором как раз находится его деревня Тимониха: «Василия-то Белова мы знаем и любим, да вот не больно-то слушаем».
Я вышел за черту столицы. Ощущение России здесь было несомненное: улица села, деревянные крепкие дома, трава на обочинах дороги – красота! Пожалел даже, что иду не босиком. Пришёл к храму. Очень он напоминал храм Вознесения Господня в Коломенском по своим летящим вверх формам. А по раскраске сиял чистотой белого и синего цветов. Зашёл. Служба, конечно, закончилась: поздно я вышел, долго шёл. В церковной лавке старушка подарила мне просфорку: «Сегодняшняя». Заполнил поминания о здравии и упокоении. Купил свечи и ставил их. Зажёг только две: у праздничной иконы и у Распятия. Остальные укрепил на подсвечниках. Даст Бог, зажгут на службе, может быть, уже сегодня. Прикладывался к иконам и мощам. И в главном приделе Рождества Христова, и в Ильинском, и в Покровском, и во Всехскорбященском. Прочёл и историю храма. И так знал, но читать её не в книге, не в интернете, а в самом храме было ощутимо благодатней.
Справа от входа стоял продолговатый невысокий стол: ясно, что для гробов. Видимо, недавно кого-то отпевали. Сколько же я помню отпеваний! И в сельских храмах, и в соборах: Георгия Свиридова и Владимира Солоухина – в храме Христа Спасителя, Леонида Леонова и Юрия Кузнецова – в называемом москвичами «пушкинским» храме Большого Вознесения. Леонов жил рядышком с храмом, и мы с Валей бывали у него. Он рассказывал, как к нему приходил Сталин. Ещё – к великому сожалению, много о болгарской Ванге. Он ей верил. И не он один. А для Юры Кузнецова символично было, что в день его отпевания впервые пробовали колокола, вознесённые на колокольню храма. Очень сильные, звучные. И стихи Кузнецова в русской поэзии можно с колоколами сравнить. Стоял у гроба, вспоминал его первые московские книги стихов: «Во мне и рядом даль» и «Край света за каждым углом» в издательстве «Современник», где мы работали и где я был парторгом. Выходили его книги с трудом. И помогло то, что я уговорил Юру вступить в партию и дал рекомендацию. «Это же не для карьеры, для прохождения рукописей». И в самом деле помогло. Гораздо позднее прочёл письмо Василия Шукшина Белову о том, что членство им помогало издавать книги. Хоть за это дорогой компартии спасибо. Тут же вспомнился фольклор 60-х: «Спасибо партии родной за любовь и ласку: отменили выходной, отменили Пасху». То есть объявили пасхальное воскресенье рабочим днём. Вот до чего доходило.
В церковном дворе были удобные для отдыха лавки. На одну я присел, вытянув приятно занывшие ноги. И вновь, будто дождавшись этой минуты, прихлынули воспоминания.
Василия Ивановича отпевали в кафедральном соборе Вологды. Сильно мешала мельтешня телевизионщиков, журналистов, очень, видимо, обрадованных тем, что ушёл Белов и некому будет их ругать, именовать «смишниками», называть телекамеру «свиным рылом», вынюхивающим только мерзости о России. Великий писатель, борец, пример во всём. Совершенно бесхитростный, прямой, смелый до безрассудства, часто обидчивый, но никогда не помнящий обид. Прямо ребёнок. Да ещё небольшого роста. «Я стеснялся, что я невысокий. И на гармошке выучился играть, чтобы как-то стеснительность побороть». Странно, но я никогда не чувствовал, что он меня старше, казался мне младшим братом, которого я обязан защищать. Но не мы, а он защищал, он был крепостью, а не мы. Несгибаемый в своей борьбе за человека на земле. На трибуне Верховного Совета он был страшен врагам России. Жириновский завизжал (это должно быть в стенограмме): «Уберите этого колхозника!»
Вот уж от кого никто не слышал бранного слова. И в их расхождении с Астафьевым ругань последнего – он даже при женщинах вставлял солёные словечки для украшения речи – сыграла не последнюю роль.
Виктор Петрович – особый случай. Конечно, мы ему в рот глядели. Когда он был в компании, то говорил только он. Первый раз я увидел его в его вологодской вотчине, деревне Сибла, на рыбалке. Меня туда привёз Владимир Шириков, редактор областной молодёжки, начинающий тогда писатель. Ели уху из пойманной Виктором Петровичем рыбы. Тогда я был покорён силой импровизации и складом его речи. Говорил так, будто пробовал на слушателях новые тексты. Как на нейтральной полосе хрюкал поросёнок, и как за ним ночью поползли и немцы, и наши, и как встретились у этого поросёнка. Воевать не стали, поросёнка поделили и вернулись: наши – к нашим, немцы – к немцам. Очень ругал военачальников: «трупами заваливали» – и вообще всю номенклатуру. Молодых писателей ругал за то, что торопятся писать. «Если хочется работать – ляг поспи, это пройдёт». Смеялся над теми, кто гордился рабоче-крестьянской биографией. «У нас про таких говорили: гли-ко, был рахит, а ходит». Ругал «поэтов-туристов» – Вознесенского и Евтушенко. И упоминаемого с ними Рождественского. «Они место заняли, вытеснили настоящую поэзию. Вместо них надо ставить Рубцова, Горбовского, Кузнецова». – «А Высоцкий?» – «Это для сытых и для уголовников». Из сверстников ругал авторов про «тихие зори» и про «белого кобеля с чёрным ухом». «Девчонки против диверсантов? Чего врать? Они бы им как цыплятам шеи свернули. А ещё бежит, стреляет, приплясывает, да ещё и поёт. Тьфу! И этот, собаку жалеет! Тут люди сотнями, тысячами гибли, трупами заваливали, вот чего об этом молчит? Фронтовики, мать их!» Был ярый болельщик, помнил все матчи: и хоккейные, и футбольные. «Вы понятия не имеете, кто такие Бобёр и Стрелец». На удивление, знал кино. Из актрис нравилась ему Маргарита Терехова.
Знал я Астафьева наизусть, особенно его «Последний поклон», «Ода русскому огороду», «Васюткино озеро», «Царь-рыба». И, конечно, «Пастух и пастушка», но в том, первом виде, а не в потом доработанном за счёт окопного словаря. В первой публикации у него тоже была цензурная правка. Иногда несправедливая. «Вот у меня, – говорил он, – солдаты в серых шинелях лежали на снегу, как немытая картошка. Чем плохо?» И мы соглашались, что это очень даже впечатляет. Тут и зрительный образ, и ощущение войны. Возмущались: какие ж собаки в этой цензуре – их бы под обстрел на снег положить. Но когда пошли у него тексты ненормативной лексики, это была беда. Правда жизни замазывалась похабщиной. Мало ли кто и как выражается, есть же традиции русской целомудренной литературы. Тут мы были единодушны: нельзя пачкать икону русского языка. Уже и «Людочка», и «Печальный детектив» читались с трудом, а роман «Прокляты и убиты» отвращал от себя матерщиной, как и совсем невесёлый «Весёлый солдат».
К ним в Вологде приходил Рубцов. Виктор Петрович прекрасно пел песни на его стихи.
И легко понять, что пути Белова и Астафьева разошлись. Ещё повлияло то, что Мария Семёновна, выпустив книгу, подала документы в Союз писателей. Белов был против. Но тут мы защищали Марию Семёновну: пишет ничуть не хуже сотен других писателей, жизнь прожила тяжелейшую. Фронт. И для Астафьева спасение. Евгений Носов называл её «матерью-героиней с младенцем Витей на руках». Членство в Союзе писателей входило в рабочий стаж и давало право на пенсию. «А я загнусь, весь перекалеченный, как ей жить?» – горячился Виктор Петрович. Она вообще была в чистом виде каторжница: разбирала сверхкорявый почерк мужа, перепечатывала его тексты на пишущей машинке, он правил по машинописному, опять всё перечёркивал, и она снова это перепечатывала. И так несколько раз. «Да книжки мои Витя даже и не читал», – говорила Мария Семёновна и с улыбкой рассказывала нам, как на одной из встреч с писателем к нему подошла женщина с её книгой и попросила: «Виктор Петрович, у меня с собой нет вашей книги, подпишите книгу жены». Он, недолго думая, черкнул: «Бабе от бабы».
Переезд в Красноярск, на родину, восстановление родового поместья в Овсянке, рыбалка на Енисее были спасительными для Виктора Петровича. В Красноярске на него стал благотворно действовать отец Михаил Капранов, отсидевший вместе с Леонидом Бородиным за членство в антисоветской организации. Приходит батюшка к писателю. Сидят, разговаривают. Виктор Петрович увлечётся, залепит в свою живописную речь нецензурное словечко, отец Михаил тут же: «Пять поклончиков перед иконами!» Сделает Виктор Петрович земные поклоны, вернётся за стол. Забудется, и опять гнилое слово выскочит. Батюшка снова и снова непреклонно: «Раб Божий Виктор! Десять поклончиков!» Виктор Петрович его слушался и жаловался нам: «А мне-то каково с моим пузом?» Благодаря батюшке лексикон писателя очищался, и продолжайся так – мы б не получили загрязнённых матерщиной астафьевских текстов последнего времени. Но бесы не дремали: отца Михаила перевели в Барнаульскую епархию.
В Японии мы с Василием Ивановичем были в гостях у профессора-русиста, и он подарил нам книги, которые издавала так называемая третья эмиграция, в том числе – сборник «Неподцензурная советская частушка». Вернулись в гостиницу. Через десять минут Василий Иванович ворвался ко мне в номер: «Ты смотрел эту мерзость?» – «Какую?» – «Частушки». – «Нет». – «Выкинь!» – «Но мне интересно». – «Выкинь! Дай сюда, сам выкину!» И забрал у меня подарок профессора: «Смотри!» – ткнул наугад. И в самом деле была явно сочинённая гадость, вроде антисоветская, а в самом деле антирусская, сделанная под частушечный размер. Конечно, образ сегодняшней России, созданный на Западе, создавали как раз не западные люди, а уехавшие от нас диссиденты, которым было всё равно, где жить, лишь бы жить сыто. А за что Россию не любили? За то, что легко обошлась без них. Да без них и воздух чище стал.
О, а как мы с Валей переходили на обращение к Василию Ивановичу на «ты». Он требовал: «Какой я вам Василий Иванович?! Вася – и всё! И никакого на “вы”». И дотребовался. С великим трудом мы, приводя в пример Виктора Потанина, который был на «ты» с Виктором Астафьевым, и Виктора Лихоносова, бывшего на «ты» с Беловым, но наконец осмелились. У Вали особенно ловко получилось. Сидели, говорили о том, что машинистки дорожают. Ещё застали времена, когда страница машинописного текста стоила десять копеек, потом – пятнадцать, а теперь вот – и вовсе двадцать. «Это ж сколько мне придётся заплатить?» «А ты пиши короче», – посоветовал Валя. Но отсечь отчество Иванович от имени Василия ни за что не смогли. «Василий Иванович, – говорил Валя, – не уговаривай, не сможем ни за что». «Ты только для Толи Заболоцкого Вася, – поддерживал я. – У него два писателя, два Васи: ты и Шукшин. Остальных он за людей не считает».
И как хорошо, что ещё при их жизни Анатолий Гребнев написал: «Тревожно за русское слово, // но вспомнишь – светлеет вокруг: // пока есть Распутин с Беловым, // не надо тревожиться, друг».
А когда они ушли, написал прощальное, из которого на память легло: «Я знаю, былью станет небыль, // мы и в гробу не улежим. // И босиком с тобой по небу // друзьям навстречу побежим. // По зову сердца мы над бездной // по звёздной тропочке пройдём // и на скамейке поднебесной // друзей потерянных найдём. // И, вспомнив радостно былое, // забудет вечность о часах, // когда Распутина с Беловым // обнимем мы на небесах».
Толю они оба любили и ценили. Белов через меня передал для Толи листочек с такими словами: «От Степанова до Крылатского то с улыбкой, то с тихой болью соловел я от слова вятского, послухмянного Анатолию. Прочитал наизусть, что было, жаль, до Вологды не хватило».
Что и говорить, в церковной ограде было самое время и место вспоминать об ушедших в вечность друзьях. А сейчас ещё и о том месте, на котором был. Это здесь происходил военный совет перед Куликовской битвой, крупнейшей битвой Средневековья, и пытался его представить. Конечно, на нём говорили о неизбежной уже битве. Слушали доклады гонцов из тех княжеств, которые также откликнулись на призыв Димитрия и митрополита Алексия. Уже знали, что поход против Мамая благословил сам преподобный Сергий, а его благословение для русских было решающим. Спешили воссоединиться с основным войском. Слушали доклады гонцов от степной «сторожи», которая следила за передвижением войск Мамая. Считали силы, оружие, припасы продовольствия и для людей, и для коней. Положили провести смотр войск в Коломне, на просторном Девичьем поле, у впадающей в Оку Москвы-реки. О Коломна – город, где свершилось венчание юного Димитрия с нижегородкой Евдокией, будущей великой святой преподобной Ефросинией. В селе Беседы Димитрий сразу после битвы заложил храм. Вначале – как водилось на Святой Руси, деревянный, потом Борис Годунов свершил каменный. Храм этот всегда был на особинку, именовался дворцовым.
Обошёл его вокруг, представляя бывавшие здесь и будущие крестные пасхальные ходы. Цветы устилали ограду. Вдруг – а не вдруг ничего не бывает – увидел указатель «К источнику». Конечно, обрадовался. Напьюсь, умоюсь. И напился, и умылся. Но источник этот был ещё и купелью. Иконы на восточной стене, свеча горит. Раньше бы и думать не думал, погрузился бы. Но сейчас-то я был с навешенным на меня аппаратом. Но уже руки сами расстёгивали пуговицы на рубашке и стаскивали брюки. А ботинки сами всех вперёд отскочили. Присоски не отпадут, думал я, проблема в этой коробочке, нельзя её замочить. Может, не рисковать? Но желание погрузиться в исцеляющие, целебные, несомненно многократно освящённые, воды отмело сомнения. Я сообразил плотно обмотать эту коробочку в целлофановый пакет, добавочно окрутил этот узел снятой майкой. Не успеет промокнуть. Хлебушек из пакета и просфору положил под икону Божией Матери.
Подошёл к купели. Немного трусил. Прочёл молитвы: «Отче наш», «Богородице Дево», «Царю Небесный», «Правило веры». Молитвы прибавили решимости. Спустился по ступенькам, зажал в левой руке свёрток с коробочкой, правой крестясь троекратно во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, погрузился с головой. Вышел. Испытанное ощущение, когда боязно погружаться, но зато потом так хорошо, так отрадно, так жарко, что об этом и не расскажешь. Можно только испытать самому. Это прообраз умирания и воскрешения. Конечно, страшно умирать, но зато воскрешаться в жизнь вечную – надеюсь, молюсь, верю – прекрасно!
Размотал майку, выжал. Выпростал из целлофана коробочку. Вроде сухая и целая. Одеваться! На ремне опять укрепил прибор.
О отрада и утешение! Принял вначале просфору, потом поел больничного хлеба, запил водою. Остатки раскрошил птичкам.
Поклонился источнику, и почему-то в памяти мелькнуло, как летели с Валей в Венецию. Самолёт так долго и так близко к поверхности моря шёл на посадку, что казался не самолётом, а какой-то стремительной яхтой. Валя оторвался от иллюминатора и засмеялся: «Увидеть Венецию и утонуть». Это он напомнил известный тогда роман «Увидеть Рим и умереть».
Я ещё зашёл в храм и ещё поставил свечи. И записочки подал о родных, и близких, и о себе, многогрешном, болящем. Да, болящем. Но ведь по своей же вине. Врачей-то надо слушаться. Все мы такие бываем: Господь не оставит, лечиться не буду, положусь на Его милосердие. Но и святые бывали врачи, и много их; и Амвросий Оптинский, сказав, что монахам «полезно прибаливать», советовал лечиться, и наш старец Кирилл (Павлов) поправлял здоровье у врачей. Другое дело, что врач, к которому идёшь, непременно должен быть верящим в Бога.
А мои врачи верят? А врачи, лечившие Валю? А Василия Ивановича? Каких врачей надо слушать? Ответ: только верящих в Бога. Иначе никаких гарантий.
Обратный мой путь был куда легче и даже веселее. Ещё бы – шагал новорождённый в купели. Даже хотел идти напрямую, к зданиям центра, но потом себя урезонил. Опять вдоль ревущей окружной до перехода, по нему, там опять вдоль трассы, в обратном направлении, и через хворостяную плотинку к забору. Посмотрел в щели – вроде тихо. Тут была проблема: с улицы не было подставки. Но как-то сумел. Подтянулся, вытянул себя, а на внутренней стороне помог ящик. Оттащил его на старое место. И вернулся в свою больничную келью, как называл палату. Позвонил жене.
– Я очень молилась. Ты меня напугал, я переживала.
– Но теперь-то успокойся. На свежем воздухе долго был. Ты знаешь, я что-то очень Василия Ивановича и Валю вспоминал.
– Я их никогда не забываю, всегда записки подаю.
– Да-а-а, твой борщ они всегда помнили.
После обеда долго лежал. Опять мысленно заново проходил путь к Беседам, храму, купели. Пытался оживить облик Димитрия Донского, виденный на иконе, перевести его в живого человека, сидящего с воеводами на военном совете-беседе, но было трудно. И не смог. И представить движение войска, храп и ржание коней мешал, конечно, доносящийся даже в палату надрывный рёв несущейся по кольцу техники. Но всё равно чётко вспоминалась наша с Валей поездка на поле Куликово. Как мы ехали, как были у слияния Дона и Непрядвы, как потом ночевали в домике прямо на поле, недалеко от храма постройки Щусева, от памятника-колонны. Как ночью вышли, молча шли к нему и как молча вернулись. Храм с куполами в виде шлемов древнерусских воинов в слабом свете луны помнился отчётливо.
Валя, помню, сказал:
– Щусев человек был набожный, хотел во спасение души построить сорок храмов, а закончил тем, что построил мавзолей для Ленина. Вот как так?
На обратном пути поехали в Елец, и там наш первый духовник схииеромонах Нектарий (Овчинников) благословил Валю окреститься. Крестил на дому архимандрит Исаакий. Помню, как потом пили чай, какой просветлевший был Валя в белой рубашке. Отец Исаакий рассказывал, как отбывал срок в Средней Азии и как издевался над его верой начальник лагеря.
– Когда пришёл ему приказ о досрочном моём освобождении, то он на построении при всех издевательски говорит: «Это что, тебя твой Бог освобождает?» А со мной сидел уголовник, такой детина, меня слушал, когда я с ними говорил. И вот когда начальник так спросил, то уголовник прямо из строя ему врезал: «А ты как думал?»
Да, вспомнил я белую рубашку, и кажется мне сейчас, что в ней или в такой же он был, когда иеромонах Иоасаф из Заиконо-Спасского монастыря приехал к нему, уже не встававшему с постели, на последнюю в жизни исповедь и причастие. Я тогда впервые увидел Валю заросшим крепкой седой щетиной. Полное ощущение старца. Хотел ещё пошутить: мол, вот, Валя, всегда тебя уговаривал бороду носить и вижу, как она тебе идёт. Но уже не произнеслось.
Прощались. Нагнулся к нему и невольно встал на колени. Поцеловал. Тихо, но разборчиво Валя произнёс: «Больше здесь не увидимся».
И вскоре было прощание с ним в храме Христа Спасителя, в алтаре которого есть памятная доска с начертанными фамилиями членов первого общественного совета по возрождению храма. Там рядом с фамилиями Георгия Свиридова, Владимира Солоухина, Владимира Мокроусова, Игоря Шафаревича написаны и наши. Валя тогда сказал: «Ради такой доски стоило жизнь прожить». После московского отпевания было и иркутское. А вот уже и на могиле побывал. И деревянный крест заменён мраморным, и цветов по-прежнему много. И пусто вокруг.
Но вообще как хорошо, что русские писатели сейчас избирают себе вечный покой на родине. Не в большом смысле: Родина, Россия – а в самом сердечном: там, где родились и росли. Александр Яшин – у себя в вологодском Никольске, Виктор Астафьев – в красноярской Овсянке, Фёдор Абрамов – в архангельской Верколе, Владимир Солоухин – во владимирском Алепине, Пётр Проскурин – на Брянщине… Жалко, что Василий Шукшин похоронен не на Алтае, а в Москве. Белов, помню, очень сожалел: «Какая глупость эта “престижность”! Что Новодевичье, что какое любое другое – одна земля. А Новодевичье – одна показуха. Скульптура: Юрий Никулин с папиросой, у ног собака, сидит на своей могиле, это что? Лежать надо на родине, её стеречь». «Могила великого человека – национальное достояние», – сказал Пушкин.
И Валя писал в завещании: похоронить рядом с погибшей любимой доченькой Марусей, с любимой женой Светой – ему и их уходы пришлось пережить. Но похоронили в ограде монастыря, в междуречье Ангары и Ушаковки. Но это очень хорошо. Валя всегда всех гостей водил в монастырь, к могиле землепроходца Шелехова. На памятнике стихи Державина: «Коломб здесь росский погребён…» И это практически в центре города, а до Смоленского кладбища доехать не так просто: на мосту через Ангару постоянные пробки, и около кладбища трасса, машины, шум, покоя нет.
Как всё летит! Нет Вали, и нет Василия Ивановича. Куда в Москве ни пойду: тут были, тут выступали, тут заседали, тут в театр, в консерваторию шли. И как теперь без них?
Василия Ивановича тоже долгие годы лечили. Страдал сильно, уже сидел в кресле, в письмах от него строчки становились всё слабее, сползали в конце вправо и вниз.
Узнали о его уходе в Доме литераторов на юбилее Станислава Куняева. В самом конце, после заключительных аплодисментов, будто он пожалел нарушить радость друга.
Поехали в Сретенский монастырь, ещё с нами – Анатолий Заболоцкий, за рулём – настоятель монастыря, нынешний митрополит Псковский Тихон. Уже близилась полночь. Подняли семинаристов, отслужили первую поминальную молитву о новопреставленном Василии. Отец Тихон при нас позвонил Вологодскому владыке Максимилиану и губернатору, просил их посодействовать захоронению Белова в Спасо-Прилуцком монастыре, рядом с могилой Батюшкова. И договорились, и Ольге Сергеевне, уже вдове, позвонили, и она согласилась. Но вологжане, ссылаясь на его слова о захоронении рядом с матушкой Анфисой Ивановной, увезли в Тимониху. А там уже на многие километры вокруг пусто. Когда он говорил, были ещё деревни, сейчас человека не встретишь. Но возвышается и стоит на страже земли Белова церковь, почти в одиночку им восстановленная, стоит, не сдаётся.
Наконец я уснул. И спал аж до самого ужина. Что же я в этот листок запишу? Спал без задних ног, ибо свершил обряд исцеления, был в церкви и погрузился в источник? Написал просто: сон.
На следующее утро та же миловидная медсестра сняла с меня все эти присоски-датчики, унесла их, и вскоре меня вызвали к лечащему врачу, Римме Оскаровне. И она, глядя на изломанные линии каракуль кардиограммы, читая их понятный для неё язык, изумлённо вопрошала:
– А что это пишете: прогулка по территории. И откуда на прогулке такие нагрузки?
– Физзарядка для бодрости. – А про себя понял: я же в это время через забор перелезал.
– А вот около полудня – что это? Учащение пульса, резкий прыжок давления и резкий спад. Потом подъём до нормального. И потом всё хорошо. Странно. Потом, после обеда, такой долгий сон. Снотворное принимали?
– Нет.
– И ночь прошла нормально?
– Нормально. А сейчас как давление? – спросил я, чтобы отвлечь её от медицинских раздумий.
Померила давление.
– Ничего не болит?
– Нет. Здоров как призывник, который не уклоняется от службы в армии. Выпустите меня на свободу с чистой совестью.
– Нет-нет, два-три дня понаблюдаем. Какой-то именно с вами особый случай.
На моё счастье, до меня дозвонилась врач из монастыря, деликатно поинтересовалась моим состоянием. Я понял: у них появился кандидат на излечение или на исследование и палату мне надо освобождать. Я просил её позвонить здешним моим распорядителям.
А она, здешняя моя врачиха, Римма Оскаровна, вошла сама. Опять несла белые листы-полотенца записей моего состояния прибором, висевшим на мне сутки.
– Простите, не могу успокоиться. Проверили прибор – нормальный. Думала, что он неверно показывает. Что вчера было с вами от девяти до двенадцати? Смотрите: читается напряжение, взволнованность, перебои в давлении, потом какой-то прыжок и затем всё прекрасно. Спокойный сон, ровный пульс. Нет, что-то было. Но что? Завтра снова на сутки поставим холтер.
– Нет-нет. – Я всерьёз испугался. – Надо палату освобождать.
– Но как понять ваше вчерашнее состояние?
– Хорошо, призна́юсь. Я был в самоволке. В самовольной отлучке. Перелез через забор…
– Ужас! Но это же грубейшее нарушение режима!
– Перелез и пошёл через окружную дорогу в церковь. Тут село Беседы, я его вам из окна покажу. Оно связано с Куликовской битвой, тут был военный совет, беседа. Димитрий Донской. Но он тогда ещё не был Донским. Я вам расскажу.
– Какой Донской, о чём вы говорите, при чём тут давление? – возмутилась она.
– При том, что там я погрузился в купель, не нырнул, погрузился трижды с молитвой в источник, вот и всё. И здоров. Тем более что вчера было воскресенье. Малая Пасха.
– Какая Пасха?! Что вы мне будете глупости говорить?! – Она разбушевалась. – Вы понимаете, что это ненормально? Мы вас лечим, а вы! Лепите мне тут всякую фантастику. Вы же могли простыть.
– Какая фантастика? Православная реальность. Но грубейшее нарушение больничной дисциплины – тоже реальность. За это меня надо наказать. Выписать. Очень прошу.
Я уже дома. Подхожу к окну. Гладкость и прохладность стекла напоминают окно моей больничной кельи. И вижу бело-синюю церковь в Беседах. И вспоминаю, как от неё можно спуститься к источнику и трижды в него погрузиться. И зажечь в храме свечи у икон, и подать записочки об ушедших друзьях. И быть уверенным, что они тебя видят и слышат.
И жить дальше.
Смерти нет
Гремят пасхальные колокола русских церквей, и вспоминается строчка поэта: «Золотое сердце России мерно бьётся в груди моей». Именно в Пасху особенно ощущается непобедимость России.
Православие, а значит, и Россию можно понять только тогда, когда уверишься в том, что смерти нет. Как нет? А что же тогда такое – российские кладбища? Но что такое Гроб Господень, в который Иисус Христос был положен умершим на Кресте, но «воскрес в третий день по Писаниям». Точно то же будет и с нами со всеми. Да, все умрём, но все и воскреснем.
В том-то и есть главный смысл Пасхи Христовой: он в победе жизни над смертью. Да и как может Начальник жизни Христос быть Богом для мёртвых? Нет, только для живых. Умерев на Кресте как человек, Он как Бог сошёл в ад, разрушил адские двери. И Адама, и многих праведных, давно и недавно умерших, встречали люди на улицах Иерусалима.
«Смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав» – это одно из главных пасхальных возглашений. Уничтожена смерть, стонет и рыдает ад.
И дарована нам вечная жизнь. Свершилась «Пасха верных, Пасха, двери райския нам отверзающая». Царь царей и Господь господствующих сделал наши души бессмертными.
В день Великого Воскресения, вслед за сошедшим в Великую субботу Благодатным огнём, служится Пасхальный канон святого Иоанна Дамаскина. «Воскресения день, просветимся, людие; Пасха, Господня Пасха, от смерти бо к жизни и от земли к небеси Христос Бог нас преведе…»
С богослужения Святой Пасхи начинаются новые счастливые дни обновления души и тела. Всю Светлую седмицу будут открыты Царские врата. Это знак того, что Спаситель открыл райские двери, показав путь спасения.
Так почему же мы не идём этим путём?
От нашего предательства Христа ещё при Его земной жизни. Спаситель сказал: «Верующий в Меня будет иметь жизнь вечную». Что ж не поверили? А кому поверили?
Иудеям, которые требовали Его смерти? И крики их превозмогли робкое желание римского наместника Понтия Пилата освободить Христа. Хотя иудеи знали, что приход Христа сбылся точно в предвозвещённое время. Но принёс Он не то, чего ждали они: не власть их над миром, не золото для них, а учение о том, что не надо копить себе тленного богатства на земле, на которой даже и золото изоржавеет, а призывал к праведной жизни ради других.
Но ведь у Креста были не только иудеи, кричавшие: «Распни Его!», были и те, кто знал Христа при жизни, свидетели исцелений и сами исцелённые. Те же Вартимей и Закхей из Иерихона. И из десяти очищенных от проказы был тут хотя бы один, тот, кто вернулся благодарить Христа. А Лазарь, друг Христа, а сёстры его Марфа и Мария? А гости на свадьбе в Кане Галилейской, где Спаситель явил Своё первое чудо? И почтенные мужи еврейские Иосиф и Никодим.
И сотни, и многие тысячи других. Что говорить – ученики разбежались. Только Иоанн остался. Именно ему поручил Иисус заботиться о Своей Матери. О Ней были Его последние земные мысли.
Да, предали Христа. Испугались. И римлян испугались. И особенно – первосвященников. «Страха иудейского ради» предали Спасителя. О несмысленные иудеи, кого вы судили? Того, Кто будет судить Вселенную? Того, Кто способен оттрясти звёзды с небес, как яблоки с яблони? Того, Кто колеблет горы и расплескивает моря и океаны? И Его судили земнородные твари? Творца жизни!
И сколько там было иудеев по отношению к остальным? И остальные, большинство, выходит, поверили иудеям? Значит, не любили Христа? Страшно вымолвить: не любили Создателя жизни на Земле. Боялись иудеев? А если бы любили – не боялись бы, ибо «совершенная любовь изгоняет страх». И как же не любить нетленного Бога? Вечного и Бесконечного, Всеведущего и Всемогущего?
Но честно скажем себе: своими грехами мы снова возводим Его на Крест. И опять распинаем. Он даровал нам время, мы его тратим бездумно, этот Его главный дар, швыряем его в пасть удовольствиям, развлечениям, чему угодно, только не спасению души. Небесные силы ужасаются, видя наше предательство.
Уж теперь-то, после всех уроков истории, можно было прийти с покаянной головой ко Престолу Божию, понимая, что всё золото мира не стоит одной спасённой души.
И если смерти нет, то что бояться перехода из времени в вечность? Чем сильнее человек верит в Бога, тем с большей радостью желает он окончания отведённого ему земного срока. Потому что не только земные времена каждого отдельного человека кончатся, но и вообще наступит конец света. Но прежде – Страшный суд. Неизбежный, справедливый. Окончательный. А до него, вспомним пророка Иезекииля, останки людей вернутся туда, где родились, чтобы воскреснуть. О, сколько сухих костей прилетит в Россию отовсюду, со всех материков! То явится миру Святая Русь в своей полноте. Миру вечному, в котором она будет главной. Главной потому, что была самой преданной Христу и более других возлюбила Его.
Святая Русь – главное воинство Христово. Закалённое веками страданий, пролитием крови, оно в сражении Христа с Велиаром, света – с тьмой будет непобедимо. Это сражение началось в вечности, в ней и закончится. Фактически мы уже выиграли его. Потому что вступаем в него, полные веры и мужества. Ибо одна только есть настоящая вера – вера православная. Почему? Потому что на землю её принёс Господь, Сын Божий. Остальные религии, верования созидались гордыней падшего человека.
Страшась этого сражения, враги Христа торопятся: всегдашняя их надежда – завладеть способностью Бога созидать жизнь. И что доказали? Что мы с дерева спрыгнули вместе с Дарвином и обезьянами? Если вам приятно считать шерстяных животных своими предками – воля ваша, но нас, православных, Господь сотворил.
И вот опять началась болтовня, что мировые учёные изобретут для людей бессмертие. Голография, киборги, ещё что-нибудь придумают. Всё это – всё та же зряшная коллайдерность да плетение словес про живую клетку. Что угодно, лишь бы с Богом посоперничать. Нет, наследники иудейских первосвященников, деньги не тратьте: и вечность, и бесконечность – в ведении Всевышнего. И только.
Вот тут и ответ, почему Россию не любит обезбоженный мир: она со Христом, бессмертие православным даровано. И остальной мир мог бы быть с Ним, если бы не уповал на науку, деньги и оружие. И вспомнил бы, что Россия никогда никем не была побеждена. Потому что, повторим, она со Христом. А именно Он будет судить и живых, и мёртвых при Своём Втором пришествии.
Об авторе:
Родился 7 сентября 1941 года в п. г. т. Кильмезь Кировской области. Русский советский писатель, публицист и педагог. Один из представителей «деревенской прозы». Пишет на православную тему. Главный редактор журнала «Москва» (1990–1992). Главный редактор христианского журнала «Благодатный огонь» (1998–2003). Лауреат Патриаршей литературной премии (2011). Почётный гражданин Кировской области (2016).



