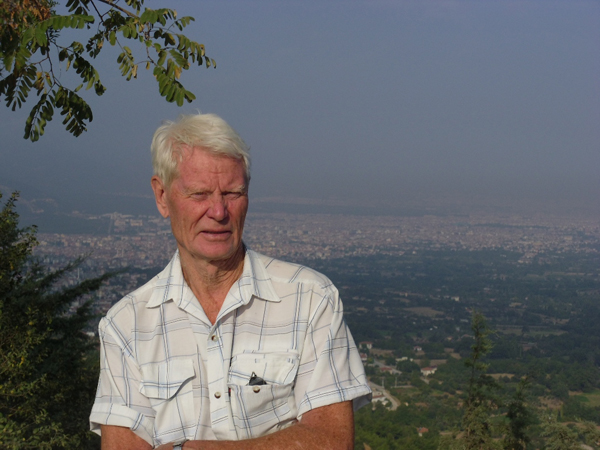Танкист
Часть 1
1
Горы появились на пятый день пути. Их первым заметил Сашка Махиборода. Утром, когда поезд стоял, он вышел до ветру. Откатил дверь теплушки, спрыгнул на насыпь, прислонился возле колеса, оглядываясь вокруг, пока теплая струя дымилась в утреннем воздухе, и вдруг заорал что есть мочи: «Ребята, глядите!»
Герка уже не спал, вылез посмотреть, что случилось. После теплой ночной вони теплушки свежий утренний воздух резанул по лицу, пробрал по спине мелкой дрожью, заставил ежиться, обхватив локти. Поезд стоял в степи. Взошедшее солнце отбрасывало на желто-серую каменистую землю длинные черные тени от состава, а впереди, там, где тихо урчал тепловоз и серебрящиеся рельсы, сводясь в две нити, уходили за горизонт, на бледно-голубом ситцевом холсте неба акварелью были нарисованы горы. Они были прозрачны и розово-жемчужны. Герка никогда не видел гор, только читал о них в книжках. Значит, действительно их везли в Среднюю Азию, туда, где горы, чинары и урюк.
Три дня назад их погрузили в эту теплушку на станции Караганда. На призывном пункте, в грязном, затоптанном сотнями ног и заплеванном клубе, собирались призывники. Это была команда, за которой приехали из части два сержанта-сверхсрочника. На черных погонах сержантов золотились маленькие танки. Призывная повестка пришла в середине октября: «Получить расчет, явиться на призывной пункт, имея при себе кружку и ложку…» Каждое утро Герка с пресловутыми кружкой и ложкой – да еще три бутерброда, завернутые в газету, в маминой хозяйственной сумке, там же смена белья и пара теплых носков – приходил в этот клуб, болтался там до обеда. Потом им объявляли: «На сегодня свободны. Сбор завтра, в восемь». Призывной эшелон запаздывал где-то, и сержанты маялись вынужденным бездельем, играли в карты, пили дешевую водку, которую им приносили услужливые бабы. Те же приводили им девок, истасканных и полупьяных. Только на четвертый день сержант заорал: «Команда семнадцать, строиться во дворе!» Долгое бестолковое построение, перекличка:
– Авдеев! Есть Авдеев?
– Есть Авдеев.
– Отвечать нужно: «Я». Становись в строй. Берёзкин! Есть Берёзкин? Кто знает, где Берёзкин?
Из толпы:
– Поссать пошел.
– Ну-ка ты, умный, бегом найди, приведи своего друга, чтобы в пять минут!
Наконец после долгих исканий и перебранок новобранцы построены в две шеренги, сержант, молодцеватый, подтянутый, ходит перед строем.
– Отныне и до прибытия в часть я ваш командир. Отлучаться только по моему разрешению.
– А что будет, если без разрешения?
– А вот тогда и узнаешь, что будет.
Хохот в строю.
– Он тебя в наряд. На кухню!
– Да я на кухню хоть сейчас!
– Товарищ сержант, а куда нас повезут?
– Узнаешь в свое время. Разговорчики в строю! Направо! Шагом марш!
Неловко повернувшись, нестройно шагая, разношерстная команда новобранцев движется по улицам Старого города. Герке очень хочется, чтобы кто-нибудь знакомый увидел его, махнул рукой на прощанье, но напрасно он вертит стриженой головой на тонкой шее. Среди провожающих и любопытствующих – ни одного знакомого лица. Герке обидно и горько, чья-то неумолимая воля оторвала его от прежней жизни. Прощай, Караганда! Куда их повезут, что с ними будет? На расспросы сержанты отвечали кратко: «Не положено вам знать, вот привезут – узнаете!» На вокзале на запасных путях уже стоит состав из двухосных вагонов-теплушек, одинаково грязно-коричневых, с широкими полотнами раздвижных дверей и узкими окошками высоко под крышей. Команда сержанта: «Стой, без команды не расходиться!»
Наконец нашли их теплушку, и новобранцы, отталкивая друг друга, лезут на высокую платформу, чтобы занять место получше. В теплушке посредине – железная печка-буржуйка, по обеим сторонам – двухэтажные нары из досок. Те, кто прихватил из дому пальто или ватник, спят на них, другие лежат на голых досках, втянув голову в поднятый воротник пиджачка или куртки, по дороге разживаются охапкой сена или соломы. Под головами – домашние мешки-сидора или сумки. Поезд трогается, за окошками проплывают, ускоряясь, мазанки пристанционного поселка, местного Шанхай-города. Герка жил в Копай-городе, и шанхайские с копайскими враждовали, но теперь уже все равно – и Шанхай, и Копай остались позади. Колеса стучат все чаще, поскрипывает всеми своими артритными суставами старенькая, еще довоенных времен, теплушка. Состав формировался на севере Казахстана, в соседних теплушках едут целинники – трактористы, комбайнеры, едут служить в танковых войсках.
Сашка Махиборода выпытал у сержанта, что карагандинская команда едет в Чирчик под Ташкентом служить в танковом училище. Сашка длинный, нескладный, смешливый и общительный, никогда не унывает. В прошлом году он окончил школу, поступал в политехнический, не прошел по конкурсу и теперь громогласно, с юмором рассказывает о своих злоключениях. Володя Литвинов небольшого роста, неторопливый, очень аккуратный и интеллигентный, говорит негромко. Они с Сашкой – старые друзья. Очень непохожие, они постоянно подтрунивают над собой.
– Вот я все думаю, – начинает Володя, – как ты будешь залезать в танк. Тебе же придется складываться вдвое. Ну, положим, влезешь, но выпрямиться ты же там не сможешь! И как тебя потом извлекать из танка?
– Ты за меня не волнуйся, я, как глиста, винтом пролезу, а вот у тебя будут проблемы почище моих. Тебя придавят в танке ящиком от снарядов, и все, не найдут. Вообще-то, таких, как ты, я в танкисты бы не брал. Тебя в пехоту нужно. Окоп для тебя – два раза лопатой копнуть, за каждой кочкой тебя не видно!
Рядом на нарах обосновались еще два приятеля – Алик Луночкин и Стёпка Мешков. Луночкин ладный, крепкий, смуглый и черный, его можно было бы принять за грека, если бы не нос – славянская картошка делала его лицо слегка комичным, но располагающим. Застенчивый Алик привязался к Герке, тихим голосом рассказывая о своей немудреной жизни на гражданке. Он окончил десятилетку в Саранске, недалеко от Караганды, пытался поступать в техникум, потом передумал, начал работать на шахте, на поверхности, и вот теперь… Стёпка Мешков полностью оправдывал свою фамилию. Его руки с граблями пальцев свободно свисали по обеим сторонам тощего, сутулого и мешковатого туловища и совсем не участвовали при ходьбе – широко ступающие врозь ноги загребали широко и нескладно, сами по себе. Нескладным было и лицо с длинным унылым носом и нависающими на глаза соломенными вихрами. Но уныние Стёпкиного лица было обманчивым – он был добрым малым со своеобразным чувством юмора. Стёпка приставал к степенному лысоватому Графову. Графов говорил волжским говорком, сильно нажимая на «о», в свои двадцать с небольшим успел жениться и был идеальной мишенью для Стёпкиных издевок.
– Слушай, отец, – юродствовал Мешков, – как тебя угораздило жениться? Ты что, думаешь, твоя жена будет тебя дожидаться три года? Да она уже подыскала тебе заместителя! И что ты будешь делать, когда узнаешь, что она с твоим же другом?..
Графов только кряхтел, розовея скулами.
– От, балаболка, отвяжись от меня. Ну уйдет к другому, у нас в деревне баб хватает! Давай лучше поедим. – Графов доставал и развязывал аккуратную тряпицу, выкладывал сало, нарезал его маленьким перочинным ножичком, угощал Стёпку.
Время тянется бесконечно медленно. Три раза в день на остановках разносят в десятилитровых пятнисто-зеленых термосах еду – сизую кашу и жидкий чай, пахнущий вагоном. Алюминиевые миски биты-перебиты, а щербатые ложки изогнуты под разными углами и скручены винтом. От нечего делать резались пухлыми, истрепанными картами, травили разные истории, спали в запас. Молодых, здоровых парней загнали в телячьи вагоны и на долгие дни обрекли на полное бездействие. Кончились деньги, взятые из дома, и новобранцы на станциях начали распродавать за бесценок свои немудреные шмотки – все равно пропадет, – покупали дешевое вино и пирожки у вокзальных бабок, но скоро нечего стало продавать, и начали работать стайные инстинкты. На станции Сары-
Шаган из теплушек высыпала пестрая полуодетая толпа, кто-то по-разбойничьи свистнул, и началось. Вокзальные бабки позорно бежали, бросая корзины с пирожками. От нечего делать перевернули газетный киоск под вопли толстой продавщицы с перманентными кудельками и отобрали свисток у выскочившего на шум станционного милиционера. Толпу утихомирил лишь протяжный гудок тепловоза. Срочно открыли путь, и состав тронулся. Больше на станциях не останавливались, проскакивали их на полном ходу, зато часами стояли на пустынных полустанках, ожидая семафора.
Мир теплушки замкнут. Направо и налево от широкой откатной двери – двухэтажные нары, посредине – железная печка-буржуйка. Герка лежит на верхней полке, кепка-восьмиклинка с узеньким козырьком – последняя мода, мама перешила по Геркиным указаниям – натянута по самые уши, голову втянул в поднятый воротник зеленой куртки-москвички, руки засунул поглубже в карманы. К утру становится холодно, дует из щелей, можно погреться возле печки, но там не протолкнуться. Нары выстелены из неровных, нестроганых досок, натирают бока, приходится переворачиваться с боку на бок, и каждый раз зло ворчит сосед справа – Круглов. Тот едет с Кокчетава, потерял счет дням и совсем опустился, превратился в маленького озлобленного зверька. Круглов перестал умываться, его когда-то белая рубашка и когда-то черный долгополый пиджак стали одинакового цвета с руками и шеей. Он ни с кем не разговаривает и слезает с нар только поесть и по нужде. Герке тоже не хочется ни с кем разговаривать. У Герки на душе тоскливое безразличие, в маленьких оконцах под потолком мелькают столбы, неустанно пляшут вверх-вниз провода, кусочки тоскливого, безразличного неба. Взятая из дома потрепанная книжка – «Спутники» Веры Пановой – давно прочитана, договорились поменяться с Сашкой, но на нарах полутемь, читать трудно, да и ничего не хочется. Он уже все передумал, перевспоминал, перетосковал, и остается только смотреть в тусклое оконце на непрестанную пляску проводов.
Днем и ночью, не переставая, не умолкая, стучат колеса, поезда развозят людей по бескрайним просторам необъятной страны. Новобранцы из Литвы едут служить в Киргизию, выпускники украинских вузов едут на работу в сибирские города, добровольцы из Узбекистана едут на целину и на строительство БАМа, а уральские рабочие и инженеры едут работать – поднимать промышленность в Казахстане. Так было всегда в этой огромной державе, разлегшейся на шестой части суши. Империя не может существовать без интенсивного перемешивания человеческого материала в этом гигантском котле, иначе этот самый материал будет выпадать в осадок, пускать корни в землю, удобренную прахом поколений, и рано или поздно заявит о нежелании жить по канонам, присылаемым из Санкт-Петербурга или Москвы. И тогда начнут змеиться трещины, отсекающие окраины от материка, начнет разваливаться несуразно огромная территория, завоеванная столетиями кровавых войн и стянутая жесткими обручами власти. Вот и прокатываются по просторам Великой Империи людские волны, гонимые ураганами войн, революций, крестьянских бунтов и репрессий. Или просто властью самодержавных правителей страны, властью, ничем не ограниченной и жестокой.
Были в истории моей страны периоды, когда внутренние бури перехлестывали границы и выплескивались на Европу волны беженцев, спасавшихся от красного террора. Были и приливные волны, питавшие страну, застрявшую между средневековым Востоком и стремительно набирающим ход Западом, новыми идеями, новыми технологиями, другим, нерусским генетическим материалом. Со времен призвания варягов, со времен московского князя Ивана Даниловича Калиты Русь широко открывала свои врата для иноземцев, решивших служить новой отчизне. Двести лет тому назад далекий предок Герки Иоганнес Вернер по призыву российской императрицы Екатерины приехал в Россию из германских земель, разоренных Тридцатилетней войной. Приехал со многими тысячами других искателей приключений. Может быть, от этого далекого предка осталась в крови Германа эта томительная жажда к перемене мест?
Герка с легким сердцем простился с надоевшим заводом. Каждый день одно и то же. Механики из цеха приносят грязные, в масле и стружках, детали станков, их нужно обмерить и сделать чертеж. По этому чертежу будут делать новую деталь взамен изношенной. Герка научился быстро измерять, но иногда делает ошибки, за что главный механик завода Юрий Михайлович Мещеряков строго взыскивает. Когда пришла повестка на призыв, Герка даже обрадовался. Служить так служить, будут перемены, будут другие города и страны. Очутиться на сказочном Востоке, воспетом поэтами, где текут кристально чистые реки, где в тени чинар сидят волоокие восточные красавицы и цветет миндаль! Вот только скорее кончилась бы эта муторная теплушечная неторопь!
В школе Герман был круглым отличником. Учился он легко и непринужденно, за одно прочтение запоминая заданные уроки. Он лучше всех писал сочинения по литературе и был любимцем учителя математики Владимира Константиновича Бабошина. Контрольную по математике Герка решал за пол-урока, помогал соседу по парте Котику Фесенко справиться с трудной задачей и, сдав тетрадку, под завистливые взгляды одноклассников вылетал на школьный двор. Блаженное ничегонеделание целых пол-
урока! От нечего делать Герка бродит по пустынному двору школы. За широкими окнами сидят ученики, устремив глаза на что-то невидимое, как в немом кино, беззвучно шевелят губами, и Герке становится одиноко и неуютно. Скорее бы школьная сторожиха – добрая и ворчливая Михална, вяжущая бесконечные чулки на старом стуле у входа и внимательно наблюдающая за большими часами на противоположной стене, – нажала на кнопку, и пронзительный трезвон заполнил все коридоры двухэтажной школы. И тогда с шумом распахиваются двери и орущая, пихающаяся толпа младшеклассников вываливается на школьный двор.
Маленький кругленький Бабошин, сильно припадавший на левую ногу, за что, конечно, получивший кличку Рупь Двадцать, не входил, а вбегал в класс со знаменитым желтым портфелем в правой руке. Водрузив портфель на стол и одарив класс хитроватой улыбкой, он намеренно долго возился с большими блестящими замками и наконец вытаскивал содержимое – надежды и страдания класса – тетрадки с контрольной. Начиналось обязательное представление китайского фокусника Баб-о-Шина.
– Боря Кириллин! – торжественно провозглашал Бабошин, беря первую тетрадку. – Боря у нас пойдет в балетную школу. Боря не любит математику, не решил правильно ни одной задачи – двойка! – Злосчастная тетрадка выкладывалась на край стола.
Смущенно улыбаясь, Борька неуклюже вылезал из-за парты и, пряча глаза, забирал свой позор. Проклятая математика не давалась ему. Потом, окончив школу на тройки, Борис с блеском окончил медицинский институт и скоро стал известным в городе хирургом Борисом Николаевичем Кириллиным.
– Надя Ким, – продолжалось представление. Бабошин открывал и в высоко поднятой руке демонстрировал классу Надину тетрадку. – Девочка очень чистая и аккуратная, девственная чистота и в ее контрольной. Надя, заберите – единица.
Геркина тетрадь всегда была последней. Лицо Бабошина принимало торжественное выражение.
– Единственная пятерка в классе, – провозглашал он, – у Германа. У юноши большие математические способности. Герману нужно поступать на математический факультет университета, и его ждет большое будущее.
Бабошин ошибался в Герке. Школьная математика не увлекала его. Она была слишком простой, а сидеть за дополнительным курсом не хотелось, да и не хватало времени. У Герки было много других увлечений. Он с жадностью прочитывал все, что попадалось под руку. Проглотил все, что было дома и у соседей, а теперь таскал и читал по ночам книги из заводской библиотеки, где работала Маша – жена старшего брата. Истрепанные томики «Графа Монте-Кристо» и «Трех мушкетеров» выдавались только по знакомству и только на два дня.
В шестом классе Котик Фесенко увлек Герку радиотехникой. Они собирали, паяли радиоприемники. Сначала это были детекторные приемники. Из картона клеили круглые цилиндры и на них аккуратно, виток к витку, наматывали медный провод. Провод должен был быть в эмалевой изоляции и обязательно ноль восемь диаметром. Провод добывали из старых, сгоревших автотрансформаторов. Кончик провода упирался в детекторный кристаллик, и сквозь треск и шумы в наушниках иногда слышались голоса дикторов. Это было маленькое чудо, но Котик принес книжку «Как сделать самому ламповый радиоприемник», и новое занятие увлекло Герку. Теперь он с Котиком по воскресеньям ездил на пригородном поезде на барахолку на краю города с двадцатипятирублевкой, выпрошенной у мамы, чтобы купить у старьевщиков, торговавших радиодеталями, лампу шесть эн семь, конденсатор двести пикофарад и сопротивление сто пятьдесят килоом. В тесной комнатке с земляным полом сладко пахло канифольным дымом от электрического паяльника, и в Геркином углу грудой лежали провода, ламповые цоколи и жучки конденсаторов. Потом Герке это надоело, он увлекся рисованием, живописью, натягивал выпрошенную у мамы белую ткань от старых подушек на деревянные рамки, грунтовал клейстером из крахмала, на осколке стекла смешивал краски, жадно вдыхая запах олифы и растворителей. На самодельных полотнах появлялись копии, срисованные с репродукций из журнала «Огонек». Но скоро Герка понял, что копии его были очень примитивными, и забросил кисти.
Начитавшись вместе с Лёшкой Карасёвым книжек о морских путешествиях, он принялся мастерить модели кораблей с пушками и парусами. Шлюп «Восток», на котором Беллинсгаузен открыл Антарктиду, вырезанный ножом из найденной на улице деревяшки, с мачтами,
реями, вантами, шкотами, брасами, с фок-марселем и бизань-бом-брамселем, покрытый лаком, изумительно прекрасный, был как настоящий, и Герка мечтал о мореходном училище, о южных морях и атоллах с голубыми лагунами, в которых отражаются пальмы. Но однажды подвыпивший отец привел в гости сослуживцев с фабрики, где он работал бухгалтером.
– Мой сын Гера, – размахивал он перед ними руками, – он сам… ик… с-сделал, я вам сейчас покажу пароход… нет, не пароход, он с парусами… я вам сейчас покажу…
Он прошел в Геркин угол, взял модель, но не удержался на ногах, и плод Геркиного трехмесячного труда, его голубая мечта, превратился в бесформенный комок деревяшек, ниток и тряпок. Герка прикусил губу и молча выбежал из дома.
Девчонки были где-то на границе его интересов. Они ничего не понимали в радиотехнике, были удивительно тупы в математике, их интересовали наряды, прически – о чем с ними говорить? Правда, Римма Новосельцева из соседнего восьмого «Б» была очень красивой, и Герка влюбился. Целый месяц страдал и мучился. Ну как он мог привлечь ее внимание? Он видел себя со стороны: рыжий, конопатый, нескладный, плохо одетый. Ну как он мог подойти к красавице Римме, когда в ее окружении всегда были такие блестящие кавалеры, как Влад Васильев? Но однажды утром проснулся, почувствовав себя абсолютно здоровым от томительной влюбленности.
В восьмом классе пришло увлечение спортом. Восьмая карагандинская школа была спортивной. Геркин одноклассник Юра Горячев выступал за сборную города по лыжам, Толик Игнатьев и Генка Казаков играли во взрослой футбольной команде «Шахтер», и хилому и неуклюжему Герке очень хотелось быть похожим на них – кумиров девчонок и гордость школы. Юрка Горячев принес весть: в соседней школе открывается спортивная секция баскетбола, и вести ее будет Николай Ли, член сборной города по боксу и баскетболу, и Герка заболел баскетболом. Николай Ли, дважды мастер спорта, был талантливым тренером, впоследствии он стал главным тренером сборной СССР по боксу. Николай с энтузиастом возился с мальчишками, обучая их азам спорта за небольшие деньги, которые ему приносили занятия в секциях. У неспортивного Герки долго ничего не получалось, но он продолжал ходить на занятия, усердно повторяя и повторяя упражнения, пока мяч наконец не стал его слушаться. Теперь все свободное время летом он гонял мяч на баскетбольной площадке стадиона «Шахтер».
Зимой были лыжи и коньки. Тренера по лыжам не было, технику изучали по книжкам, подсматривали у маститых. Зимой футбольное поле стадиона заливали и превращали в каток. Вечером под прожекторами феерически ярко сверкал лед, звучала музыка, коньки с ботинками напрокат стоили на ученический билет двадцать копеек. На льду – толпа катающихся, и нужно виражировать, уклоняться, чтобы не сбить с ног начинающую, размахивающую руками девчонку. На катке встречались, знакомились. «Витька, Сашка, привет, давай в догонялки!» – И начинается сумасшедшая круговерть. Солидные, медлительные пары ругаются, сбили с ног размахивающую руками девчонку. Когда от мороза немеют пальцы рук и ног, можно отогреться в раздевалке, сняв ботинки и чувствуя, как с болью толчками крови возвращается в бесчувственные пальцы тепло и жизнь. Но вот предупредительно мигает свет, стихает музыка – праздник закончился, нужно идти домой.
Моложе всех в классе на год, Герка уверенно нес звание первого ученика. Он был первым по всем предметам, кроме истории. Первым по истории был Витька Титоренко. Черный как грач, горбоносый Витька жил неподалеку, тоже на Загородной. Герка любил бывать в этой простой шахтерской семье. У немногословного Витьки было то, чего не хватало Герке, – глубина и основательность. В истории Витька схватывал главное, что требовала Анастасия Константиновна Татаринцева, – причины и следствия исторических событий. Эти многочисленные причины и следствия был тягостны и скучны Герке, и он откровенно завидовал Витькиной основательности во всем – и в жизни, и в учебе, и в спорте.
Геркино будущее казалось ясным и безоблачным: он кончает школу с золотой медалью – в этом никто не сомневался, – и перед ним открываются двери лучших вузов страны, только выбирай! Но случилось то, чего никто не ожидал: на выпускном экзамене за сочинение «Образ товарища Сталина в советской литературе» за три ошибки-описки он схватил тройку и лишился не только золотой, но и серебряной медали. Теперь нужно было поступать на общих основаниях, но Герман как носитель немецкой фамилии был ссыльным, без права выезда за пределы района, и все двери вузов стали для него закрыты. Оставалось одно: поступать заочно. Куда поступать – не было сомнений: ближайший политехнический был в Свердловске, куда по сложившейся традиции ехали учиться выпускники школы. Вступительные экзамены он сдал с блеском при Карагандинском горном институте. Для Герки началась жизнь рабочего парня. Учеником разметчика в механическом цехе машиностроительного завода он пробыл два дня. На третий день его вызвал начальник цеха Анатолий Михайлович Пинскер:
– Тебя с цехом познакомили? Все, с сегодняшнего дня будешь работать самостоятельно. В школе, мне сказали, ты учился хорошо, давай работай так же. Что непонятно, спрашивай. Все, мне некогда, иди работать.
Шестнадцатилетнего Герку задвинули в третью смену. Третья смена начинается в полночь и продолжается до семи. Ночью в механическом цехе работает только половина станков, работы для разметчика мало, и Герка забирается в инструменталку поспать час-другой на куче ветоши, добрая инструментальщица Лида пускает мальчишку. Что ему мерзнуть в холодном цехе? А когда будет нужно, мастер пинком разбудит его, и полусонный Герка, дрожа от холода в промасленной телогрейке и дуя на пальцы, размечает деталь и записывает в свой наряд выполненную работу.
Утром после смены он бежит домой, оттирая на ходу уши и пряча руки в карманы штанов. Мама нагрела воду в тазу, Герка сбрасывает промасленную одежду в угол и долго отмывает лицо, руки, шею от въевшегося машинного масла.
– Ну, все отмыл?
– Нет, вон за ухом еще чернота.
– Ну мам, ну сколько можно? Все глаза мыло выело! – злится он.
Завтра опять в ночную смену, но поспать днем никак не удается, уж очень много надо сделать за день: поиграть в баскетбол – ребята договорились с залом, – дописать контрольную по высшей математике, мама укладывает его только в девять. В половине двенадцатого она будит Герку:
– Гера, вставай, поднимайся, тебе пора на работу. Ты понимаешь, что тебе на работу?
Герка не понимает и валится снова. Мама его поднимает, одевает и выталкивает за дверь:
– Тебе на работу, понимаешь? Пропуск я тебе в карман вот сюда положила, осталось пятнадцать минут, беги быстрее.
Герку разбудил заводской гудок. Он не помнил, где ходил, спя на ходу, и только сейчас очнулся. Где он? Что с ним? Вокруг темнота, смутно белеет стена какого-то дома… гудок надсадно гудит и гудит откуда-то справа и зовет, зовет… Окончательно проснувшийся, Герка бежал не разбирая дороги. Гудок уже умолк, и он стал различать окрестности. Ушел он во сне не так далеко. Нельзя опаздывать больше чем на пять минут! Иначе – суд, год исправительных работ, это он твердо знал. Он бежал, и на каждый шаг билось неумолимое и безжалостное «под-суд-под-суд-под-суд»…
Стрелка на больших белых часах на проходной скакнула к цифре два, когда он подбежал. Усатый стрелок охраны в форме с зелеными петлицами даже не спросил у него пропуска.
– Ты что, пацан, под суд захотел? Сейчас проверка придет. Твое счастье, что они задержались. Ты из механического? Беги быстрей, только кустами, кустами, не попадайся им, а то и мне попадет.
Герка долго не мог отдышаться возле своей разметочной плиты. Фу, пронесло: и мастера на месте не было, и табельщица пожалела, открыла уже замкнутую табельную доску и повесила бирку с Геркиным номером на гвоздик.
Герман уже больше никогда в жизни не будет опаздывать на работу. Через год его перевели в отдел главного механика, а в 1955 году закончились сталинские времена, и Герман получил вольную. И в тот же год его призвали.
2
На шестой день пути, рано утром, состав с призывниками остановили в Ташкенте на товарной станции. Двери открыли только у двух соседних теплушек. Раздалась команда: «На выход с вещами!» Сонные, помятые и порядком оборванные в пути, они бестолково топтались у путей. На привокзальную площадь лихо въехали и развернулись три ЗИСа с высокими, обшитыми досками бортами. Бравые сержанты быстро рассадили призывников на скамейки в кузовах, и машины тронулись. Вперед, в новую, армейскую жизнь. Грузовики медленно пробирались по нешироким улочкам азиатского города. По обеим сторонам – сплошные глиняные стены дувалов, кое-где прорезанные крохотными деревянными дверцами, и полное безлюдье, как в городе мертвых.
Наконец улочку пересекает другая, пошире. На углу, над журчащим арыком, устроена широкая деревянная площадка, и там в тени чинары за низеньким столиком сидят и пьют чай из цветных пиал узбеки, одетые в толстые стеганые халаты. Большущий казан шкварчит на огне, и в нос ударяет острый запах кипящего хлопкового масла, лука и дыма от тлеющих саксаульных углей. Герка и Сашка Махиборода сидят на скамейке рядом, во все глаза смотрят на этот удивительный мир. Им весело оттого, что кончилась наконец муторная вагонная скука, от новой жизни, от теплого утреннего ветерка. Их смешит все: и то, что под опорой линии электропередачи лежит в пыли, вытянув тонкие ноги, ишак, и то, как сорвало порывом встречного ветра кепку с головы призывника, сидящего в передней машине.
ЗИСы уже выбрались из города и едут по пыльному шоссе, а по обеим сторонам, убегая к близким горам, раскинулись хлопковые поля. Низенькие кустики усеяны хлопьями ваты, ее собирают в большие корзины за спинами женщины и дети, много детей, от самых маленьких, которым, наверное, нет и десяти. Все от мала до велика одетые в пестрые полосатые халаты. Согнутые спины, беспощадное азиатское солнце и пелена тонкой пыли над хлопковыми полями. До гор справа от шоссе, кажется, рукой подать. Сиренево-грифельные внизу, они вырисовываются сахарными гребнями на прозрачно-голубом небе. Солнце уже припекает нестерпимо, и из-за горизонта впереди вынырнули заводские трубы. Это Чирчик – город химиков, машиностроителей и военных, там им предстоит прослужить, прожить целых три года.
Танковое училище было переведено в Чирчик из Харькова в первые годы войны. С северной части города расположился целый военный городок с казармами, учебными корпусами, танковым парком, а далее, почти до границы с Казахстаном, – танкодром, изъезженный, перерытый окопами, измолотый танковыми гусеницами.
Откатываются широкие ворота, машины въезжают на территорию и останавливаются.
– Разгружайся! – кричит сержант.
Новобранцы спрыгивают с машин, озираются. Перед вступлением в новую жизнь им предстоит пройти чистилище – армейскую баню. В предбаннике прямо на пол сбрасывается гражданская одежда, здесь же – стрижка. Два солдата из хозвзвода стрекочут ручными машинками, усеивая пол черными, светлыми, рыжими мальчишескими патлами, и вот уже Герка, растерянно ощупывая свою стриженную под ноль сиротскую голову, ступает в гулкое, мутное от пара банное нутро, поскальзывается и растягивается на цементном полу. После помывки в предбаннике, уже убранном и подметенном, они одеваются в гимнастерки, ношеные, но залатанные и постиранные. Одежда подбирается на глазок, на скорую руку, у кого-то подол до колен, а у Герки рукава чуть ниже локтя. Труднее с сапогами: принесли какие-то недомерки, и Герка не может влезть ни в одни. Наконец старшина приносит из своего личного запаса сорок пятого размера, новенькие, на зависть всем. На улице – гогот, показывают друг на друга пальцами, все стали одновременно похожи на огородные пугала, гимнастерки пузырями топорщатся на плечах и спинах, пилотки неумело нахлобучены, портянки торчат из сапог. Пройдет время, и старшина Никитин подберет, подгонит каждому новую форму, научит их подшивать белые подворотнички, начищать латунные пуговицы асидолом, до сизого зеркального блеска надраивать кирзовые сапоги и затягивать широкий жесткий ремень так, чтобы не просунуть пальца. А пока сержанты учебной роты принимают новое пополнение.
– Становись!
Новобранцы, толпясь, вытягиваются в кривую, нестройную линию.
– Авдюшко!
– Есть Авдюшко.
– Нужно отвечать: «Я»! Рядовой Авдюшко, выйти из строя. Первый взвод. Ахметов! Выйти из строя. Второй взвод… Баскаков… Вернер! Выйти из строя! Третий взвод…
Помощник командира третьего взвода – покомвзвод три старший сержант Сергиенко. Ему только недавно присвоили новое звание, и он время от времени косится на свои погоны и любуется тремя новенькими лычками. Два года он терпел власть других сержантов, и теперь эти салаги – целиком в его власти. Командир взвода приходит в восемь и уходит в пять, а он, Сергиенко, круглые сутки здесь, он научит их Родину любить, он выбьет из них гражданскую дурь! Сергиенко долговяз и нескладен, на ходу выбрасывает ноги в стороны и размахивает руками, как мельница. Он расхаживает перед собирающейся толпой салаг, его будущим взводом.
– Взво-о-од! – разражается наконец он зычным воплем, от которого маленький Сыздыков вздрагивает и ежится. – По росту в две шеренги ста-ановись! По росту, я сказал! А ты куды прешься? Как фамилие? Круглов? Надо говорить – рядовой Круглов! Так вот, левый фланг вон там. А ты что жмешься? Как тебя? Мешков? Ты туды, на правый фланг. Взво-о-од!.. Р-р-няйсь! Равняйсь, я сказал! Голову направо, видеть грудь четвертого! Смирно! Мешков, пузо подтяни! Напра-а… во! Направо, я сказал! А ты куды? Как фамилие? Садыков? Ну, все равно, что Садыков, что Сыздыков, право – это вот! – Сергиенко сует под нос Сыздыкову здоровенный правый кулак. – Шаго-ом… марш!
Нестройно, не попадая в ногу и натыкаясь на впереди идущего, взвод идет в казарму. Герка, самый высокий, шагает впереди. Он теперь всегда будет правофланговым.
Иоганнес совсем разошелся. От выпитого пива, от духоты пивной, от табачного дыма его лицо покрылось багровыми пятнами.
– Нет, это не может так продолжаться! – ревел он, стуча тяжелой кружкой по столу и расплескивая пиво. – Наш эрцгерцог только дерет с нас налоги, а защитить нас не может ни от австрийцев, ни от пруссаков. Они хозяйничают у нас, а я не могу накормить мою семью. Вот эти руки привыкли работать! – Иоганнес протянул свои кулаки, покрытые рыжей щетиной. – И я не хочу, чтобы моя дочь Анна пошла работать прислугой в дом этого иудея Геншера! Уже два года, как закончилась эта проклятая война, нам обещали мир и благополучие! И где они? Богатеют только те, кто живет в городах, и торговцы, как этот Геншер. Нет, с меня хватит, я уезжаю! Вот, один знакомый шваб дал мне бумагу. – Он вытащил из кармана потертый листок и потряс им в воздухе. – Тут написано, что российская императрица Катрин приглашает поехать в Русланд людей, которые умеют работать, она обещает дать землю, сколько захотят, дать много денег на обзаведение и освободить от налогов на тридцать лет. А эта Катрин – из наших, она родилась здесь, ее звали Фредерика Августа, а потом она вышла замуж за русского принца, а теперь она правит их страной, и они называют ее Катрин.
– Так говорят, что она – пруссачка.
– Нет, она из Померании, только ее отец служил у прусского императора. Говорят, что она – большая умница, и поэтому она зовет нас в Русланд.
– Ганс, ты сошел с ума! Там, в Русланд, всегда зима, и живут там одни медведи и татары. Как ты будешь там жить?
– Это неправда! – сверкнул глазами Иоганнес. – Мне этот шваб рассказывал, что русские – очень умные люди. Еще он рассказывал, что у них был император Питер. Он приезжал к фламандцам учиться строить корабли. Так он сам работал топором и ходил в простой одежде, не то что наш эрцгерцог – тот разъезжает в золоченой карете, а до нас ему нет дела. Если они не умные, как они могли бы разбить этого пруссака Фридриха? У них был бой с пруссаками в одном месте, кажется, он называл это место Кунерсдорф. Так Фридрих потерял там всю свою армию и позорно бежал. Да если бы не русские, мы сейчас были бы под пруссаками!
– Иоганнес, подумай, а вдруг это обман?
– Нет! С меня хватит, меня уже три раза обманул наш эрцгерцог! И я поеду на край света, если мне дадут землю, чтобы я мог работать и прокормить мою семью, а вы оставайтесь и ждите, пока не станете нищими! – Иоганнес громко хлопнул дверью, выходя из пивной.
Осенний мелкий дождик сеял на его разгоряченный шишковатый лоб, но Иоганнес не замечал этого. Он шел к пастору. Пастор напишет письмо в Дармштадт, там, сказал шваб, есть контора от Русланд. Пастора не было дома, и Иоганнес присел на край скамейки, ожидая его. В доме пастора было тихо, пахло сладко и приятно, и Иоганнес конфузливо смотрел на свои сапоги, оставлявшие грязные лужицы на чисто вымытом полу. Пастора все не было и не было. Он придет, долго будет расспрашивать, потом долго будет писать письмо, потом письмо долго будет идти в Дармштадт, потом… Нет, ждать Иоганнес не умел, он завтра сам поедет туда и сам все узнает.
Дома Марта робко поставила перед ним на стол миску с неизменной тушеной капустой и крохотным кусочком свинины. Она утаила этот кусочек от детей. Гансу нужно хорошо питаться, чтобы работать.
– Где Анхен? Опять шляется с этим Йоханом, бездельником, таким же, как его отец? Твой кузен Франц сам не любит работать, и сынок у него такой же! – бушевал Иоганнес. – Ну все! Мы уезжаем в Русланд. Завтра утром я еду в Дармштадт и получу там все документы. А Анна чтобы сидела дома!
Марта тихо плакала в своем углу: «Ганс – он бешеный. Если он вбил что-то в свою голову, то отговаривать его бесполезно. И откуда взялся этот баварец? Сбил Ганса с толку. Ну и что же, что мы живем небогато, зато у нас есть свой дом. И в нем тепло зимой, только пора уже заменить несколько черепиц на кровле и входную дверь приходится завешивать одеялом, а то из нее дует, а Ганс никак не найдет времени, чтобы ее починить. Другие живут еще беднее. Вот у кузена Франца болеет жена, и иногда в доме совсем нет еды. Нужно сходить к пастору, может быть, он вразумит Ганса. Ну куда ехать с тремя детьми? Анхен пора выдавать замуж, а Карл и Герда еще совсем маленькие». И слезы снова закапали из ее глаз.
Иоганнес не любил ездить в этот Дармштадт. Ну, разве что на ярмарку, которая бывала по праздникам на центральной площади Луизенплац. Там можно продать поросенка или что-то из овощей и купить Марте немного сукна и что-нибудь детям. А что там еще делать? На этих булыжниках только разбиваются копыта у лошади, да и эти солдаты герцога, что сидит в замке Франкенштейн, они все время угрожают своими аркебузами. Правда, во время войны они куда-то бесследно пропали. Но все равно, как можно жить в этом каменном городе? Пункт для переселения в Русланд располагался в ратуше. В большой комнате пахло табаком и новой краской. За столом, заваленным кипами бумаг, сидели двое. Один – в зеленом камзоле («Как пруссак», – неприязненно подумал Иоганнес), он молчал и курил трубку. Зато второй, толстенький и улыбчивый, расспросил Ганса обо всем и потом дал ему бумагу со штемпелями:
– Тут написано, что по велению российской императрицы ты, Иоганнес, едешь с семьей в Русланд. Тебе мы дадим денег на поездку, а там, в России, ты получишь еще деньги и еще две коровы и лошадь, и на тридцать лет ты и твоя семья освобождаются от налогов. И еще, что ты сохраняешь свою веру и свой язык. А земли ты получишь столько, сколько захочешь. Тебе нужно только подписать снизу. Но если ты передумаешь и захочешь вернуться назад, то тебе придется выплатить половину из всех этих денег. Ты меня понял?
Иоганнеса учил грамоте старый пастор, это было давно, старый пастор уже умер, и теперь у них новый пастор, молодой. На бумаге было написано много непонятных слов, и Иоганнес беспомощно поднял глаза на этого улыбчивого.
– Ну ладно, – сказал тот, – вот тебе перо, напиши свое имя.
«Werner», – непослушными буквами вывел Иоганнес.
– Ну, вот тебе пропуск и деньги. Через месяц уходит корабль, ты должен быть в Любеке через месяц.
Иоганнес вышел на улицу и долго разглядывал в своих заскорузлых ладонях новенькие крейцеры. Как так могло быть? Он с малых лет работает как вол, дожил до сорока лет и никогда не держал в руках столько денег. А тут сразу… и земли сколько хочешь, и две коровы! Эта Катрин – действительно очень умная и добрая императрица. Он, Иоганнес, умеет работать, у них там, в Русланд, будет новый, крепкий дом, много еды, и его Марта станет не такой тощей, как доска, а круглой, как фрау Геншер, а Анхен они выдадут замуж за хорошего, трудолюбивого человека, не такого, как сын этого бездельника кузена Франца. Семья Анхен будет жить рядом, а потом у Иоганнеса родятся внуки, много внуков…
На полученные крейцеры удалось купить всем теплую одежду и теплые одеяла – там, в Русланд, бывает холодно, – а те деньги, что остались, Марта зашила в укромное место. У Анхен припухли и покраснели глаза, зато младшие прыгали и кричали: «Мы едем в Русланд, мы едем в Русланд!»
Соседи недоверчиво качали головами, и только молодой Руперт, что жил на другом конце улицы, расхрабрился и сказал, что тоже поедет в Русланд. Иоганнес обрадовался. Руперт недавно женился, у него жена молодая и здоровая, не то что у кузена Франца, и сам Руперт умеет работать, да и двумя семьями не так страшно ехать в незнакомую страну.
Дом и лошадь Берту оставляли кузену Францу. У Иоганнеса дом получше, вот только черепицу нужно перебрать и дверь починить, а то зимой дует из двери, и приходится завешивать ее одеялом.
– Если не вернемся, живи в нашем доме, только корми Берту хорошо, она уже немолодая, но еще сильная, а то ты свою лошадь кормил плохо, и она у тебя подохла.
Ехали в Любек на двух телегах – кузен Франц вернется домой с лошадьми и телегами. В Любеке Марта совсем оробела. Большой шумный город, у пристани стоят высоченные корабли, на них переброшены узкие мостки, и по этим мосткам непрерывным потоком, как муравьи, идут и идут грузчики с мешками на спинах. Среди них есть совсем черные, с вывороченными губами, как черти, прости меня, Господи. Есть узкоглазые, они непрерывно что-то жуют. На пристань с грохотом въезжают груженые телеги, от одной Марта едва увернулась, слава тебе, Господи. А рядом с пристанью – пивные, и там распутные девки в обнимку с матросами, глаза бы мои не видели такое, тьфу ты, прости меня, Господи. Анхен, что ты уставилась? Отвернись, пошли прочь отсюда! И много людей на пристани с узлами и мешками: из Гессена, из Померании, из Саксонии и даже из Баварии. Они тоже едут в Русланд и дожидаются погрузки. А потом началась погрузка, и по узким сходням нужно идти вверх, вверх, на страшную высоту. Марта посмотрела вниз, и закружилась голова, подогнулись и отказали ноги. Хорошо, что Иоганнес подхватил, не дал упасть, как только сердце не оборвалось?
Но самое страшное началось, когда корабль отвалил от пристани и вышел в море. Холодный северо-восточный ветер вдруг задул, засвистел в снастях, грязно-серое небо опустилось до самой мачты, а седые волны с неопрятными седыми космами гулко ударяли прямо в левую скулу корабля, отчего он весь содрогался, кренился вправо, а потом одним махом вздымался и снова проваливался в сизую пропасть, и сердце Марты тоже замирало и тоже ухало в пропасть. Двое суток переселенцы, бледно-зеленые от тусклого света и страданий, мучились на нижней палубе, а Марта молилась своему доброму Богу, чтоб он пощадил хотя бы их детей. Как хорошо было бы сейчас дома, и ничего, что дует из-под двери, можно завесить одеялом…
Марта забылась тревожным сном только к концу второй ночи, когда качка стала стихать. Проснулась она от тишины. Их корабль стоял неподвижно в густой серой мгле. Весь мир исчез, сузился до маленького пятнышка. Сверху, с бессильно обвисших парусов, капали крупные капли, тревожным красным пятном где-то наверху светился фонарь на мачте, и «бом-бом-бом» – непрерывно звонил корабельный колокол. Тоскливые колокольные звуки гасли в пелене тумана, и было непонятно, где они, куда делось море и когда все это кончится. Платок и юбка быстро набухли холодной сыростью, и Марта поспешила вниз. Время остановилось, переселенцы бесцельно, натыкаясь друг на друга, бродили среди узлов и мешков, ждали, ждали…
Светло-серая мгла сменилась темно-серой, а колокол продолжал бить: бом-бом-бом… А может быть, уже нет ни моря, ни неба, ни земли, и они уже никогда не увидят ни Русланд, ни родного дома, и это Бог наказывает их всех за упрямство Иоганнеса. Ну почему он не послушался соседей и даже пастора? Тот, очень приличный и умный, хотя и молодой, говорил, что нужно жить на земле предков. В голове Марты смешались дни и ночи, она засыпала, ей снились ужасные сны. Чернокожие грузчики и непотребные девки в жутком хороводе кружились вокруг нее, затягивая, увлекая Анхен и младших, ноги приросли к полу, туман спеленал руки, она звала Ганса, а вместо крика вырывалось «бом-бом-бом»… Марта просыпалась и долго не могла понять, где она. Потом доставала лепешки, взятые из дому, они уже кончались, и что тогда будет с ними?
Марта не понимала, сколько прошло дней и ночей, когда впереди, на горизонте, показался берег земли с названием Русланд. Он был белым над темно-зеленой массой моря.
Так далекие предки Герки, тонкошеего призывника из Караганды, обрели свою новую родину. Они уже не вернутся и никогда не увидят земли своих предков. Выходцы из разных германских земель, они создадут новую этническую группу – поволжские немцы-колонисты. Пройдя через лишения и страдания, они поселятся на берегах великой русской реки, снова пройдут через лишения и страдания и превратят дикие и пустынные степи в житницу России, создадут свою культуру, отличную от культуры своих предков, и будут говорить на диалекте, отличном от языка своей прародины. Они разделят судьбу своей новой родины, с ее бунтами, бессмысленными и беспощадными, с ее войнами и революциями. Пройдет полтора века, и они пройдут через страшный голод, организованный комиссарами этой страны, голод, подобного которому не знает современная история цивилизованных стран. Они пройдут через этот голод и снова сделают Поволжье житницей новой страны, а через двадцать лет по указу усатого властителя, указу бессмысленному и беспощадному, будут согнаны с этих мест и переселены в дикие и пустынные степи Казахстана. Они будут прокляты и забыты, их история будет вычеркнута из истории страны, а само слово «немец» по воле другого усатого властителя, фюрера их прародины, станет бранным символом врага, клеймом, которое они будут носить как каторжники. Они пройдут через новые лишения и страдания и вместе с другими народами, проклятыми и обманутыми, сделают дикие и пустынные степи новой житницей страны. Будут снова обмануты и преданы новой властью, и спустя двести тридцать лет бо́льшая их часть повторит в обратном направлении путь своих предков, чтобы быть принятыми на своей прародине людьми второго сорта.
Неумолимое колесо истории совершит свой оборот. А может быть, прав был тот пастор, приличный и умный, хотя еще молодой, когда говорил Марте, что нужно жить на земле своих предков? Но как быть, когда смерчи войн и революций поднимают в воздух пылинки человеческих жизней и переносят их на сотни километров, разнося семена жизни в дикие и пустынные земли, и человек не властен над своей судьбой? Просто нужно жить, трудиться, растить детей и восстанавливать по крупицам страницы жизни людей, в клочья разорванные бурями истории. Все это будет потом, а сейчас они стоят на верхней палубе и напряженно вглядываются в эту землю, белую от снега и неизвестности.
3
Солдатский день начинается с подъема. В семь часов ровно раздается истошный вопль дневального:
– Рота-а-а, падъем!
Включается свет, и следом орет Сергиенко:
– Взво-о-од… падъем!
От его крика приходит в движение казарма. Нужно за сорок секунд вскочить с койки, увернувшись от прыгающего со второго этажа Сашки, натянуть брюки и гимнастерку, намотать портянки, запрыгнуть в сапоги, не перепутав их с Сашкиными, выбежать из казармы и занять свое место в строю. Сергиенко оделся заранее, до подъема, и с секундомером в руке следит за построением. Все в строю, где-то замешкался Круглов. Наконец появляется и он.
– Так, сорок восемь секунд. Взво-о-од… атбой!
Теперь нужно за тридцать секунд добежать до койки, сбросить с себя все, сложить на тумбочке брюки и гимнастерку, обмотать портянками голенища сапог и нырнуть под одеяло. Сергиенко провести невозможно.
– Мешков, почему в штанах под одеялом? Два наряда вне очередь! Взво-о-од… падъем!
На этот раз уложились в сорок секунд, но Сергиенко сегодня решил отыграться на взводе.
– Его вчера крепко воспитывал старшина Никитин, – по секрету шепчет Стёпка.
– Луночкин, почему портянки торчат из сапог? Взво-о-од… атбой!
Подъем, снова отбой, третий, четвертый раз. Уже нет злобы, только тупое, равнодушное сопротивление. Взвод строится все хуже и хуже, Сергиенко орет, раздает наряды вне очередь. Наконец после пятого подъема сержант сдается. Следует команда: «Взвод, налево, бегом марш!»
По асфальтовой кольцевой дороге вокруг училища – глухая дробь солдатских сапог. Возле казармы взвод замедляет бег.
– Атставить! Шире шаг!
Бегут второй, затем третий круг. Уже первый и второй взводы давно в казарме. Наконец:
– Взво-о-од! В казарму бегом… марш!
Умывальники – на улице, в любую погоду по пояс раздетые, обливаются, брызгаются, как мальчишки. Они и есть мальчишки, еще не повзрослевшие, робкие и, как щенки, неуклюжие. Здесь, в армии, они станут крепкими и закаленными, настоящими мужчинами. После умывания нужно тщательно заправить койку, туго натянув простыню, и строго в один створ выровнять сложенные одеяла, перетянув их другими простынями. За небрежность сержант выдаст еще наряд. Уже время утреннего осмотра. Старшина Никитин, подтянутый и щеголевато одетый – он сверхсрочник, прошел войну, – прохаживается по коридору, ожидая построения. Сержанты командуют своим взводам «смирно», строевым шагом подходят к Никитину.
– Товарищ старшина, первый взвод на утренний осмотр построен. В строю двадцать восемь, в наряде двое, больных нет. Помкомвзвода сержант Ильницкий.
– Товарищ старшина, второй взвод на утренний осмотр построен…
– Товарищ старшина, третий взвод…
– Здравствуйте, товарищи солдаты!
И рота, набрав воздуха и сосчитав в уме «раз-два», бойко отвечает:
– Здра – жла – тва – стршна!
– Вольно! – Старшина проходит вдоль строя, цепкими глазами оглядывая молодежь, останавливается напротив Вовки Олейника.
– Сержант Ирбинскис, почему у рядового Олейника подворотничок несвежий?
– Виноват, товарищ старшина, рядовой Олейник вчера был в наряде, не успел.
– Значит, нужно было после наряда подготовиться к осмотру, делаю вам замечание. Рота-а-а… снять левый сапог! Сынок, кто ж тебя так учил наматывать портянки? С такой намоткой ты ж через пару километров натрешь себе ноги. И какой ты тогда солдат? Старший сержант Сергиенко, научите Гребенкина правильно мотать портянки. А почему у Луночкина несвежие портянки? Не успел постирать, смены нет? Сержанты, выдать смену, у кого нет. Солдатские ноги нужно беречь! Надеть сапоги! Товарищи солдаты! Завтра вы принимаете военную присягу на верность Родине. Вы станете полноправными защитниками мирного труда нашей страны. Пройдет немного времени, и вы станете настоящими воинами, орлами. Вот посмотрите на Графова – настоящий орел! Мешков? И Мешков тоже станет орлом. Правильно я говорю, товарищ Мешков?
– Так точно, товарищ старшина!
– Вот видите! Отставить смешки… Рота-а-а, смир-р-р… но! Нале-е… во! В столовую… шагом… марш! Запевай!
Запевает Витька Хлебопашев, высокий, пухлогубый, с нежным, как у девушки, лицом. У Витьки оказался звонкий, чистый голос.
Дальневосточная опора прочная,
Союз растет, растет, непобедим.
И все, что было нами завоевано,
Мы никогда врагу не отдадим!
Глухо, как в бочку, неохотно подхватывает рота:
Стоим на страже-е
Всегда, всегда
И, если скаже-ет
Страна труда,
Прицелом точны-ым
Врага в упор.
Дальневосточная,
Даешь отпор!
Краснознаменная,
Скорее в бой! Скорее в бой!
Последние строчки солдаты по традиции выговаривают как «скорей отбой». Сергиенко, обернувшись, грозит кулаком.
Армейское начальство почему-то считает, что строевая песня поднимает дух, на самом деле солдаты петь не любят, но если плохо споют, сержант погонит на второй круг. Глухо топают сапоги, маленький Сыздыков сзади все время отстает и вприпрыжку догоняет взвод… У Сыздыкова рост – метр сорок девять. Вообще-то маломерок с ростом меньше метр пятьдесят в армию не берут, но его почему-то взяли.
– Взвод… стой! По отделениям… в столовую… шагом марш!
В столовой за большими столами сидят на деревянных лавках по отделениям, по десять человек. В каждом отделении свой штатный разводящий. Вместе с помощником он бежит к амбразуре и тащит бачок с кашей, алюминиевый чайник и горку хлеба. Должность разводящего – почетна. Под взглядами отделения одним точным движением черпака он должен отделить одну десятую так, чтобы себе, последнему, досталось чуть-чуть больше остальных. Это по-честному. Обсчитался – обделил себя. Главная солдатская еда – каша. Ячневая – кирза, овсяная – бронебойка. Редкая на столе пшенная любовно и ласково называется блондинкой. По выходным и праздничным дням солдат балуют гречневой размазней. Быстро работают ложки, через пятнадцать минут команда: «Взвод, встать, выходи строиться!» Наскоро допивается тепловатый жидкий чай, остатки хлеба запихиваются в карманы.
Сегодня понедельник, день ненавистных политзанятий. Взводный, тонконогий и кривоногий, как таракан, лейтенант Маркелов, читает лекцию «СССР – оплот мира во всем мире». Под мерный голос лейтенанта слипаются глаза, клюют носы. Герка толкает в бок Сашку Махибороду:
– Сашка, не спи.
Не меняя интонации и не повышая голоса, взводный оглядывает класс:
– Только благодаря нашей боевой мощи сохраняется мир на всем земном шаре. Кто спит… встать!!!
Вскакивают трое.
– Так… На политзанятиях спят Круглов, Гребенкин, Луночкин.
В дверь просовывается голова дневального:
– Вернера – к командиру роты!
Перед дверью ротного Герка приводит себя в порядок: одернуть и туго натянуть гимнастерку, поправить пряжку ремня, пилоткой смахнуть пылинки с носков сапог, ребро ладони приставить к носу, проверить, чтобы звездочка пилотки была точно посредине, а сама пилотка – лихо на правый бок. Теперь шагнуть в кабинет, щелкнуть каблуками, четко поднести ладонь к виску и заорать:
– Товарищ капитан, рядовой Вернер по вашему приказанию явился!
Быстро вытянуться, руки по швам, выпятить грудь, пожирая глазами начальство. Капитан морщится, машет рукой:
– Вольно, вольно, не ори. – Он прохаживается, руки за спину. – Ты… это… в институте учишься, так?
– Так точно, товарищ капитан!
– Да ладно, вольно, не кричи так. – Капитан еще прохаживается, наконец решается: – Тут, понимаешь, такое дело, помочь мне по математике нужно.
Берёзко – из белорусской деревни. Прошел войну, от рядового дослужился до младшего лейтенанта, прошел краткие командирские курсы, закончил войну старлеем, командиром роты, и был направлен сюда, в танковое училище. В войну все было просто и понятно, он делал свое привычное дело, а вот теперь, когда война закончилась… приходят молодые хлыщи-лейтенантики, еще молоко на губах, только из училища, и Берёзко ощущает свою заскорузлую малограмотность, его белорусские «бруки», «вперод» то и дело прорываются в речи, и эти лейтенантики плохо скрывают свои ухмылки. За добросовестную службу произвели Берёзко в капитаны, а дальше… ему скоро сорок, семья. Не станет майором – попросят в отставку, а что он будет делать на гражданке?.. А в майоры – только через высшие командирские курсы. Берёзко трусит начальства, и когда в роту приходит комбат подполковник Метелица, он теряется, суетливо шаркает подошвами (Стёпка тихонько: «Рядовой Махиборода, отнесешь сапоги капитана в починку»).
Герка с капитаном сидят за столом. В капитанскую голову никак не вмещается, что а плюс бэ умножить на а минус бэ получится а квадрат плюс бэ квадрат, и вообще, эти буквы, зачем они? Герка терпеливо объясняет, потом начинает терять терпение, повышать голос, капитан его осаживает: «Но-но, не забывайся!» – и они снова бредут по алгебраическим дебрям. Наконец звонок, конец занятия, капитан облегченно вздыхает: «Ладно, иди». Герка задерживается:
– Товарищ капитан, разрешите обратиться?
– Что у тебя там?
– Товарищ капитан, разрешите продолжить учебу в институте.
– Это как же так?
– Я же заочно. Разрешите не в ущерб службе заниматься.
– Ну, если не в ущерб… Ладно, разрешаю.
В коридоре Герку обступают:
– Что к тебе ротный пристал?
– Да по математике с ним занимался.
– Ну и как ротный?
– А, тупой, как сибирский валенок, – к восторгу солдат небрежно бросает Герка.
В боксах мирно спят гиганты – добрые зеленые динозавры – танки. Принюхиваются длинными хоботами пушек, поглядывают, посверкивая глазка́ми прицелов, ждут своих повелителей. Он приходит, маленький, в черном комбинезоне, одним ловким движением акробата, извернувшись, ногами вперед ввинчивается в люк, и зеленое чудовище оживает. Радостно взревев, шлепая лапами гусеничных траков, выползает из своего логова, повернувшись на месте на одной лапе, стальная громада ускоряется, спешит вырваться на простор, все быстрее, быстрее. Рев пятисотсильного зверя достигает апогея. А его повелитель, упершись колбасками шлемофона в броню, ухватившись за рычаги, смотрит в узкую щель перископа-триплекса. Гремят, стреляют торсионы катков, человек и машина сливаются в единое целое, и сорокатонный стальной вихрь, покорный воле маленького человека, мчится, сметая все препятствия, перелетает через канавы, взлетает на пригорки, и нет на свете силы, и нет на свете преграды, что могла бы остановить эту мощь.
Хозяева этих машин, их повелители и слуги – солдаты танкового батальона, механики-водители, наводчики орудий, заряжающие. Они любовно моют и чистят танки, солидольными шприцами набивают подшипники, смазывают все шарниры и суставы, щелочным раствором промывают стволы орудий после стрельб, а потом до зеркального блеска натирают их. А еще подметают территорию, булыжниками мостят танковые дороги, из глиняных саманов строят танковые боксы, а во время перекуров в курилках смолят газетные самокрутки с суровой солдатской махрой. Добродушные динозавры позволяют этому муравьиному люду залезать в свое нутро и там колдовать с ключами и отвертками, заполнять баки маслом и соляркой. Завтра – выезд. Завтра утром придет сюда на очередное занятие взвод курсантов – будущих офицеров. Майор с планшеткой на боку выстроит их перед стоящими по линейке танками и будет что-то долго объяснять, размахивая руками. Потом он крикнет: «По машинам!» – и курсанты, как стайка вспугнутых воробьев, разлетятся по экипажам, включится радио головной машины: «Раз-раз-раз, я сокол один, я сокол один, доложите готовность, доложите готовность, я сокол один, прием», и сразу эфир заполнится ответами: «Я сокол два, я сокол два, к выезду готов, я сокол два, прием», «Я сокол три»… И танки, строясь в змеящуюся колонну, потянутся к выездным воротам.
К курсантишкам солдаты относятся с оттенком сдержанного, снисходительного и уважительного презрения. Они, белая кость, без пяти минут офицеры, не умеют водить танки, боятся грязи, на обед получают белый хлеб и компот и курят не махорку, а сигареты «Прима». Зато сегодня можно неловкого курсанта обложить матом: мол, я сегодня главный в танке, знай свое место!
Длинный день клонится к вечеру, наступает блаженное личное солдатское время. Офицеры давно уехали домой, сержанты, устав глотничать, заперлись в старшинской каптерке. Солдаты стирают портянки и подворотнички, чистят пуговицы и сапоги, стучат костяшками домино «на вылет». Графов, вздыхая, пишет письмо жене в деревню. Герка тоже тужится над письмом домой. Писать совсем нечего, дни похожи один на другой, и он отделывается дежурным: «Все хорошо, здоровье в порядке, только замучили чирьи, вскакивают то на шее, то под мышкой». Мама подробно описывает все домашние события, и Герка томительно и сладко представляет… Топится печка, и пахнет мамиными пирогами с капустой. Приехал старший брат с женой, они сидят за столом, отец раскраснелся от выпитых рюмок, и Фредя с Машей запевают «Маричку». Ребята переписываются со своими девчонками. Вовка Олейник откровенно и обыденно рассказывает о своих связях с женщинами, в деревне все очень просто и обнаженно. Но если это так, то где же любовь, о которой пишут в романах и стихах? Герке очень хочется, чтобы кто-то там, на гражданке, думал о нем, он написал двум своим одноклассницам. Одна ответила. Она учится в медицинском, вчера у них было практическое занятие, резали мужской труп: «Один парень не выдержал, его вырвало, а я ничего, уже привыкаю. Боря Кириллин тоже в мединституте, на параллельном курсе. Генку Казакова отчислили с третьего курса горного за пьянку и драку в общежитии…» Герка пишет что-то о тяготах службы, но вся переписка какая-то натянутая, неинтересная и скоро иссякает.
– На вечернюю поверку… становись!
Наконец долгожданное «Отбой!». Выждав, когда казарма утихнет, Герка натягивает гимнастерку, достает из тумбочки учебники – прислали из дома, – тетради и пробирается в ленкомнату. Дневальному у входа – знак: «Молчи, не выдавай!» Разложены книги, и он погружается в изящные построения теории механизмов и машин.
Герка уже на третьем курсе. Заочное обучение – то же самообразование. Методист на кафедре высылает каждому заочнику программу и задания на контрольные работы, получает выполненные работы, отдает их на проверку и, если контрольные выполнены, посылает вызов на очередную сессию. Впрочем, если контрольные не выполнены, вызов посылается тоже. Заочник сам выбирает, кому, где, что и когда сдавать.
На заочном учатся в основном деды. Работает Иван Петрович мастером или конструктором уже много лет, и вот его вызывают в отдел кадров, и старый знакомый кадровик, отводя взгляд, начинает:
– Иван, ты, я знаю, работаешь хорошо, но тебе нужно иметь диплом, иначе мне никак не отбиться от министерства. На твое место мне навязывают молодого специалиста из института. Так ты давай, подавай документы на заочный. Все рекомендации я тебе сделаю.
И Иван Петрович переползает с курса на курс за два года, запинается на экзамене, и преподаватель из почтения к сединам, вздыхая, ставит ему тройку в зачетку, а когда лет через десять выходит на дипломный проект, у него оказываются несданными высшая математика за второй курс и ТОЭ за третий, и методист бегает и просит преподавателей поставить тройку, потому что теперь уже все равно…
Учебники и методички высылает бандеролями мама. В училище есть отделение почты, Герку там уже знает молодая почтальонша, выдает ему бандероли и принимает заказные письма в институт с выполненными контрольными работами.
Дверь ленкомнаты с треском распахивается, на пороге – Сергиенко. В подштанниках, с резко выпирающими мослами.
– Почему нарушаешь устав? Кто разрешил?
– Мне капитан Берёзко разрешил заниматься…
– Капитан Берёзко не может отменить устав! По уставу положен отбой, значит, отбой – для всех отбой! Собирай свои книжки, еще раз увижу – отберу!
Теперь Герка после отбоя терпеливо ждет полчаса, пока уснет казарма. Но на третью ночь Сергиенко снова поймал его с поличным, отобрал книги, методички, да еще наряд вне очередь выписал. Пришлось жаловаться взводному. Скрипнув зубами, сержант вернул свою добычу.
– Два часа после отбоя можешь читать свои книжки. Но я тебя достану все равно! Думаешь, самый умный?
Герка мыл полы гектарами, ходил в наряды на кухню, но продолжал делать контрольные, а солдаты с интересом наблюдали за неравной борьбой двух упрямцев и, конечно, болели за Герку.
4
Санкт-Петербург оказался немного похож на Любек: те же башенки, шпили, корабли, только весь завален снегом. На берегу их встречал хорошо одетый господин в меховой шапке. Он говорил на гамбургском диалекте и пообещал, что всех разместят в Ораниенбауме, это недалеко, там летом живет императрица, и там всем будет хорошо, а потом они поедут на юг, на большую реку Volga, только нужно немного подождать.
Опять ждать! Ждать Иоганнес не умел. Он истомился вынужденным бездельем и беспомощностью на корабле, он больше не хотел ждать! Хорошо одетый господин сказал, что контора Опекунства по делам переселенцев находится недалеко, нужно пересечь две улицы, и там будет большой дом с колоннами.
На портале большого дома, над колоннами, летел ангел, похожий на маленькую Герду, и Иоганнес понял, что это хороший знак. Возле крыльца, рядом с ангелом, собралось много людей, Иоганнес услышал знакомую речь и подошел поближе.
– Нужно идти прямо к императрице! – кричал малорослый, одетый в городскую одежду. – И рассказать ей все.
– Ты в своем уме? Да кто тебя допустит к императрице? Даже в это Опекунство не прорваться, швейцар не пускает, гонит взашей. Там говорят: «Ищите барона Боренгарда, он вас вызвал», а где найти этого барона?
– Ну, я уже не могу. У меня маленькие дети, за вязанку хвороста местные дерут по крейцеру, за хлеб приходится платить впятеро, еще месяц, и у меня кончатся деньги.
Остальные хмуро молчали.
– Я прошу прощения, – протиснулся Иоганнес к тому, что в городской одежде, – мы только приехали, и мне сказали, что…
– Он только приехал! Ты откуда? Из Гессена? Мы здесь уже два месяца. – Малорослый был любителем поговорить. – Нас поселили в Ораниенбауме, там летом жила императрица и ее фрейлины, а теперь мы живем, где была казарма. Тех, что приехали раньше, отправили на поселение по реке, а потом реки замерзли, и нам сказали: «Ждите». А чего ждать? Там летние домики, очень холодно, еды нет…
Со стороны набережной послышался шум и крики. По улице мчалась тройка. Черный громадный коренник разбрасывал снежные комья, а белые, без единого пятнышка, пристяжные, склоняя лебединые шеи, стелились по сторонам. Толстый кучер в овчинном тулупе кричал: «Пади! Пади!» – и кнутом хлестал разбегавшийся люд. Перед крыльцом Опекунства он так осадил тройку, что черный жеребец всхрапнул и стал на дыбы. Из золоченой с гербами кареты выскочил гигант в собольей шубе. В распахе шубы виднелся шитый золотом мундир, увешанный звездами. И тотчас из дверей Опекунства на высокое крыльцо высыпал чиновный люд в зеленых мундирах, низко кланяющийся, шелестящий: «Ваше сияс-ство Григорь Григорьич». Великан устремил унизанный кольцами палец на толпу:
– Что за люди?
– Это немцы, ваше сиятельство, они только приехали, и мы…
– Врешь, сволочь! – Орлов сгреб чиновника одной рукой за грудки и поднял в воздух. – Мурыжишь здесь людей, а мне отвечать перед императрицей! Если еще такое увижу – пойдешь у меня в Берёзово пешком вшей кормить!
Легко, как щенка, он отшвырнул чиновника, брезгливо стащил с руки белую перчатку, бросил под ноги, с треском захлопнул дверь кареты. Кучер щелкнул кнутом, закричал: «Пади!» Тройка взяла с места и исчезла, оставив за собой облако снежной пыли.
Тотчас началась суета, переселенцам выдали деньги, много денег, и устроили на ночлег. Иоганнес вертел в руках монеты с вычеканенным профилем. Так вот какая она, императрица Катрин, не только мудрая, но и красивая. Нет, не зря Иоганнес поверил ей и приехал в Русланд!
Утром стали подъезжать сани, запряженные небольшими мохнатыми лошадками. Иоганнес с сомнением смотрел на лошадок. У них в Гессене лошади были большие и сильные. Разве смогут такие лошадки довезти их до реки Volga? Ему сказали, что это две тысячи миль! Но лошадки бежали резво, раскатывая сани на ухабах, дети весело кричали, показывая на высоченные заснеженные ели вдоль дороги, и даже Марта приободрилась. Только перед встречными по дороге избами, которые здесь смешно назывались «трак-тир», лошадки замедляли ход и потом совсем останавливались. Ямщики, одетые в толстые армяки, оборачивались и смущенно показывали что-то руками. Наконец Иоганнес понял: нужно дать немножко денег. Ямщики обрадованно выскакивали из саней, скоро возвращались раскрасневшиеся и веселые, и лошадки снова бежали вперед по накатанной дороге. Ночевать останавливались на постоялых дворах. За большой стол из темных неровных досок усаживались все постояльцы. Дородная хозяйка постоялого двора рогатой палкой – ухватом, так ее называли – вытаскивала из печи и ставила на стол большие чугуны, пышущие паром, с капустной похлебкой, которую здесь называют shchi, и грютцелем, который русские называют kasha. От тепла жарко натопленной печи слипаются глаза, и Марта укладывает Карлушу и Герду на лавках, что стоят вдоль стен. Ночью на них набрасываются насекомые, живущие в щелях русских изб, и утром Марта смазывает расчесанные детские щечки гусиным жиром и успокаивает: «Потерпите, скоро приедем».
Иоганнесу не спится, он выходит во двор. Светит луна, хрупают сеном лошади. Иоганнес треплет их по холкам. Они оказались очень выносливы. И им нипочем русская зима. Интересно, как такая лошадка потащит плуг? Там, на Волге, у Иоганнеса будет две, нет, три таких лошадки. У русских теплые дома, они их делают из больших бревен, но ставят прямо на землю. Это неправильно, дом скоро подгниет и покосится. Старый мастер Иохим говорил ему, что нужно делать хороший каменный фундамент, тогда дом будет стоять долго. Русские делают крышу из соломы, просто сваливают ее кучей, и ветер треплет ее. Иоганнес будет делать крышу из тростника, его нужно хорошо высушить и пучки крепко привязывать к стропилам. Еще русские ставят дома слишком близко друг к другу. Если случится пожар, огонь перекинется на соседний дом, и сгорит вся деревня. Светит луна, хрупают сеном лошади, ямщики спят в санях, зарывшись в сено… Иоганнес посеет табак, высушит его, он будет сидеть вечером на скамейке перед своим домом и набивать своим табаком трубку, к нему подойдет Руперт, Иоганнес угостит его табаком, они будут сидеть рядом и говорить, как правильно они сделали, что поехали в Русланд.
Чем дальше на юг продвигались повозки, тем теплее становилось. Кончились леса, и Иоганнес во все глаза смотрел на широкие пространства. Столько земли, никем не занятой, невспаханной! Солнце начало пригревать, снег оседал, и от проталин поднимался розовый пар. Земля была черной, она ждала плуга. Проталины появились и на дороге, и уставшие лошадки еле тащили сани по растаявшей грязи.
– Эвона Саратов! – Обернувшийся ямщик указал кнутовищем на холм на горизонте. – Конец, значить, путе!
Лошадки взбодрились и скоро докатили до Саратова, быстро выгрузили поселенцев прямо в грязь и быстро повернули назад – нужно торопиться, а то дорогу совсем развезет.
Низкими домишками поселение теснилось на круглом холме Сарытау, кривыми улочками сбегало к высокому берегу заснеженной Волги, блеяло овцами. У коновязи на привязи стояли два диковинных зверя. Высоченные, грязно-желтые, с клочьями свалявшейся шерсти и двумя горбами на спине, они презрительно смотрели на приезжих сверху вниз, их челюсти непрерывно двигались вправо-влево, и сено клочками свисало с губ. Весеннее солнце грело вовсю, растапливая смешанный с навозом снег на кучах, окружавших поселение, и стая тощих собак рвала оттаявший труп лошади, растаскивала куски лошадиной плоти, дралась в грязи. Кучи отвратительно пахли. Как можно жить в такой нечистоте? У них там, на родине, бургомистр строго наказывал за валяющийся мусор, правда, когда началась эта проклятая война, пропала и власть, и порядок, и некому стало штрафовать пьяницу Фрица, который жил на дальнем конце улицы.
Справа, ближе к реке, отделенные от поселения дорогой, виднелись полуноры-полудома. Там горели костры, у костров толпились люди, и оттуда к приехавшим шла странная фигура. Это была старуха, одетая в рваное мужское пальто, подпоясанное веревкой, ее седые космы свисали на лицо из-под черного платка. Старуха подошла ближе, и Марта увидела, что это вовсе не старуха. Это была женщина одних с Мартой лет, очень худая. На ее пепельно-бледном, мертвенном лице жили глаза в темных подглазьях, они сверлили Марту. Женщина остановилась и молча смотрела на Марту, потом перевела взгляд на жавшихся к ней детей, и грязный костлявый палец уставился прямо ей в лицо.
– Приехали! Зачем вы сюда приехали? Убирайтесь отсюда, пока живы ваши дети! – Голос женщины срывался, прерывался надсадным кашлем. – Вы приехали, чтобы ваших детей закопали в эту землю? Но им будет холодно там, очень холодно!
К женщине уже бежал молодой человек с копной светлых волос.
– Тетушка, тетушка, пойдемте. – Юноша обнял женщину, гладил по плечам, и та покорно повернулась. Юноша оглянулся: – Вы простите ее, она немножко не в себе. Меня зовут Вольфганг, я отведу ее домой и вернусь.
Вольфганг вернулся очень скоро. Он был такой аккуратный, его простая одежда была заштопанной в нескольких местах, но чистой, и даже башмаки, несмотря на весеннюю грязь, каким-то чудом оставались чистыми.
– Я вижу, что вы только что приехали и ничего здесь не знаете. – Вольфганг застенчиво улыбнулся. – Мы живем в Саратове уже давно, с осени, я уже немного знаю русский язык и, если нужно, постараюсь вам помочь.
Рассказ Вольфганга
Я рано стал сиротой. Мои родители умерли, когда мне было пять лет, и я воспитывался у тетушки, младшей сестры моей бедной мамы. Тетушка и дядя Эрни взяли меня в свою семью как родного. Дядя Эрни был очень хорошим столяром, у него было много работы, и вся семья, а у них кроме меня было еще трое младших, жила сытно. Тетушка хотела, чтобы я стал пастором, и я учился в школе. Потом началась война, и у дяди совсем не стало работы. К нам приходили вербовщики от прусского императора, но дядя Эрни наотрез отказался идти воевать. Тогда они вернулись втроем, схватили дядю, связали и увезли в телеге. Тетушка плакала, умоляла, но что она могла поделать с тремя здоровенными пруссаками? Один из них хлестнул тетушку кнутом и захохотал: «Твой муж – дурак! Не захотел служить императору за деньги – послужит бесплатно!»
Полтора года мы ничего не знали о дяде Эрни, а потом он вернулся в прусском мундире, с пустым ранцем и с рукой на перевязи. Осколком снаряда ему искалечило правую руку, и теперь он не мог столярничать. Дядя ничего не рассказал о том, что с ним было, только сидел за столом, обхватив голову здоровой рукой, и слезы катились по его лицу. Я стал давать частные уроки, тетя Анель брала белье в стирку, но денег не хватало, и когда стали говорить о переселении в Россию, дядя сказал, что больше не хочет жить в этой проклятой Богом стране. Рука у дяди немного зажила, и мы всей семьей поплыли в Россию.
На большом корабле мы прибыли в русскую столицу Санкт-Петербург. Ждали мы там недолго, и скоро нас всех отправили сюда. Сначала все было хорошо, по речкам и озерам нас переправили на большую русскую реку Волга, посадили на большую лодку, которая называется расшивами, и мы поплыли по этой реке. Все радовались, что скоро приедем на место, хотя на расшиве было очень тесно. Но когда мы проплывали большой город Казань, люди начали болеть. Я думаю, что причиной болезни была плохая еда и то, что люди не всегда мыли руки, но болезнь была страшной, каждый день она уносила чью-то жизнь. Расшива пристала к берегу, и мы хоронили умерших на волжском берегу. Умерли дядя Эрни и мои племянники, но ко мне и тете Анель Бог был милостив. Тетя тоже тяжело заболела, была без памяти почти неделю, но выздоровела, а когда узнала о смерти своей семьи, забилась в истерике и потеряла разум. В начале пути нас было шестьдесят человек, а выжило двадцать два. С нами был пастор, он тоже тяжело заболел и перед смертью позвал меня.
– Вольфганг, – сказал он, – Бог призывает меня к себе, но я не могу оставить этих людей без слова Божия. Ты еще очень молод, не посвящен в пастыри Божии, но у тебя
доброе сердце, и ты много узнал в школе. Возьми мой требник и пообещай, что не оставишь этих людей без слова Божия. Им нужно ободрение и добрый совет в тех трудных испытаниях, что выпали на их долю. Еще пообещай, что станешь пастором, когда тебе исполнится двадцать один год.
Я пообещал нашему пастору и с тех пор стараюсь как могу облегчать жизнь этих людей. Болезнь отступила наконец, и мы поплыли дальше. Когда доплыли до Саратова, была уже глубокая осень, и в местном Опекунстве сказали, что нужно зимовать здесь. Нам дали деревянные лопаты, и мы начали рыть в земле вот эти норы, они называются землянками. Люди были очень слабы после болезни, а работа – очень тяжелой. Господин Леруа – ему русская императрица поручила быть нашим вызывателем – прислал своего форштегера, и тот помог добыть бревен, чтобы перекрыть землянки, и научил, как собирать топливо. Это высохший скотский помет, его называют кизяком, мы собирали его в поле, чтобы пережить зиму. Он сильно дымит, и мы все пропахли этим кизяком и дымом и, простите, не очень опрятны. – Вольфганг смущенно улыбнулся. – Зимой было очень трудно, морозы стояли иногда очень сильные, но мы выжили с Божьей помощью, только трое самых слабых умерли. А теперь уже потеплело, мы ждем, когда вскроется река, и тогда… – Вольфганг умолк.
Анна не могла оторвать глаз. Он был такой умный и так много пережил, бедняжка. А волосы у него, наверное, очень мягкие, если их погладить… Анна смутилась и покраснела от собственных мыслей. А Вольфганг взглянул на нее, и она покраснела еще больше.
– А кто такой этот Леруа? – прервал наконец затянувшееся молчание Иоганнес.
– Это француз. Русская императрица поручила переселение по своему указу нескольким людям, они называются вызывателями: барон Боренгард, он из Брабанта, французы Леруа и Дебоф. Наш вызыватель – Леруа, и вот мы ждем, когда нам отведут земли на левом берегу Волги. На правом берегу все свободные земли уже распределены.
– И сколько еще нам ждать?
– Здесь есть контора Опекунства, там сидят русские чиновники и ничего не делают. Только говорят: «Вот вскроется Волга, приедет ваш вызыватель, и тогда…» – Вольфганг вздохнул. – Вот мы и ждем.
Ждать, ждать и снова ждать! Иоганнес вспомнил вдруг: тот шваб говорил, что русские долго запрягают… Как дальше, он забыл. Кажется, едут быстро, но не туда, куда нужно.
Вольфганг стал приходить каждый день. Он показывал, как рыть землянки, учил, как делать костер и где добывать еду.
– Сегодня в Саратове ярмарка, – сказал он однажды, – это значит – большой рынок. Приедет много людей, и будет интересно. Если Анхен захочет, я могу проводить ее туда.
Анна умоляюще посмотрела на мать.
– Ладно, иди, только недолго. И хорошо причешись, и надень новый платок на голову.
Ярмарка раскинулась по другую сторону холма, на берегу Волги. На большой площади с вытоптанной высохшей грязью, перемешанной с навозом, стояли телеги с поднятыми оглоблями и привязанными к ним мохнатыми лошадками. Низкорослые степные люди с редкой растительностью на бронзовых монгольских лицах, узкоглазые, одетые в лисьи малахаи и кожаные сапоги, перекликались тонкими голосами. Русские люди были одеты в армяки и сплетенные из лыка башмаки.
– Это русская обувь, называется лапти, – сказал Вольфганг.
В повозках лежат связанные по ногам бараны, ворохи шкур: воловьих, волчьих, лисьих. Огромные, в человеческий рост, осетры свесили хвосты с телег. Белугу привезла упряжка волов на двух связанных вместе телегах. Анна никогда не видела таких больших рыбин, и Вольфганг объясняет ей, что такая рыба живет в Волге, ее ловят, обкладывают льдом и везут в Санкт-Петербург и Москву. В кадках с водой плещутся выловленные в проруби стерляди и щуки. Покрыты рогожами телеги с мороженной с зимы рыбой. В больших деревянных, схваченных обручами ведрах – икра, черная, красная и золотисто-желтая. Анне весело и интересно, только она боится страшных зверей с горбами.
– Это верблюды, они смирные и неопасные, на них приехали из-за Волги степняки, кайсак-киргизы. Они живут в степи в юртах, сделанных из шкур, и кочуют с места на место.
Покрыты рогожами телеги с солью. Соль привезли из-за Волги, там ее добывают в соляных озерах. За рыбой и солью приехали купцы из Москвы. Купленный товар грузят на подводы, и медленный обоз, влекомый волами, много дней ползет через полстраны к столицам. Свежую красную рыбу везут на перекладных лошадях от станции к станции, днем и ночью. Товар нежный, может испортиться в пути… Степняки пригнали табун лошадей. Лошадки боязливо похрапывают, волнуются, переступают копытами. Ими торгует кудлатый человек с большой серьгой в ухе. Кудлатый одет в желтую рубаху, подпоясанную кушаком, и безрукавку. Он без шапки, спутанные черные кудри рассыпаны по плечам. Странный человек совсем не боится лошадок, хватает их за морды, заглядывает в храпящие лошадиные рты.
– Ой! – Анна испуганно прижалась к Вольфгангу.
Прямо на них шел настоящий медведь, темно-бурый, огромный, его на цепи вел мужичок в колпаке и лаптях. Медведь шел угрюмо, переваливаясь на мохнатых лапах и не обращая внимания на расступающуюся толпу, на мальчишек, показывающих на него пальцами. Лошадки, почуяв медведя, забеспокоились, стали биться, вставать на дыбы, и ямщики замахали на поводыря руками: «Уходи подальше, не пужай коников!»
Праздный люд столпился вокруг райка. Над ситцевой занавеской кукольный Петрушка в красном колпаке лупит палкой толстого купчину в картузе. Публика веселится: «Так его, Петруха, так его, мироеда!» Сбитенщик с тележкой пробирается сквозь толпу: «Сбитень, сбитень, медовый, сладкий, покупай без оглядки!» Вольфганг покупает большую кружку сбитня и пряник. Пряник большой, в форме то ли козы, то ли собаки, пахнет медом. Они разламывают пряник и поочередно запивают его из одной кружки. Очень смешно, что от сбитня у Вольфганга вырастают усы и что ему от пряника досталась голова, а Анне – задняя часть! Как жаль, что нужно возвращаться!
– Ну еще немножко погуляем!
Но Вольфганг пообещал Марте, что недолго.
Ночью Анна долго не может заснуть. Лошади, верблюды, поводырь с медведем, куклы проносятся перед ее глазами, а из-за них ласково смотрит и смотрит на Анну Вольфи…
Продолжение следует.
Об авторе:
Родился в Москве. Окончил Уральский политехнический институт (заочно). Инженер-механик. С 16 лет трудился рабочим-разметчиком, затем конструктором, главным механиком завода. С 1963 года работал главным инженером заводов металлоконструкций в Темиртау Карагандинской области, в Джамбуле (ныне Тараз), в Молодечно Минской области, в Первоуральске Свердловской области, в Кирове, а также главным инженером концерна «Легконструкция» в Москве.
С 1992 по 2012 год работал в коммерческих структурах техническим руководителем строительных проектов, в том числе таких, как «Башня-2000» и «Башня Федерация» в Москве, стадион в Казани и др. Пишет в прозе о том, что пережил и прочувствовал сам.